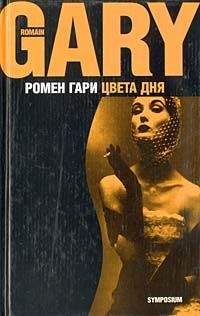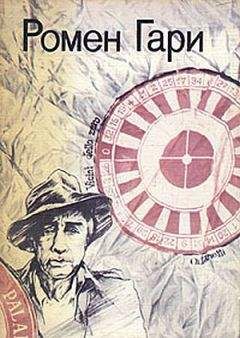Он назвался Ла Марном.
Теперь ему уже сорок семь, и у него один из тех носов, которые, кажется, удлиняются по прошествии лет. Он стоял у стойки бара, рядом с Ренье — единственным его другом на всем белом свете, — и смотрел на вишню на дне своего бокала. Они нарочито поджидали карнавальную процессию, но, впрочем, кто угодно, как говорится, даже слабая женщина могла пройти здесь. Это могло произойти где угодно. Определенного места не было. Он ждал ее не для себя, конечно. Он ждал ее для Ренье: он жил полностью по доверенности, предоставляя другому действовать вместо себя. Он даже не мог бы уже с уверенностью сказать, было ли это братством или паразитизмом. Но, впрочем, братство — это немного специфический способ жить за счет других. На авеню Победы подвешенные на платанах громкоговорители обрушивали на толпу официальную мелодию карнавала этого года, в точности походившую на мелодию предыдущих лет. Тра-ля-ля-ля, мрачно размышлял Ла Марн, тра-ля-ля-ля… В толпе он чувствовал себя неуютно. Правда, он нигде не чувствовал себя так уютно, как у себя дома. На свою беду, он постоянно стремился всюду чувствовать себя как дома, стремился, чтобы чужие люди принимали его как старого приятеля и брата. Поначалу он относил эту ностальгию на счет антисемитских гонений — ибо только они могли объяснить такую потребность человека в братстве, — вплоть до того дня, когда он познакомился с арийским бакалейщиком, который признался ему, что страдает тем же ужасным желанием, а именно: иметь возможность войти в любой дом и чтобы тебя тут же приняли как самого близкого родственника, обняли, обласкали и уложили с грелкой в постель. Ла Марна всегда охватывало сильное волнение, когда он вот так обнаруживал у себя некий общечеловеческий знак. Он был очень впечатлителен, и на него существенно повлияла антисемитская пропаганда 40-х годов. И ничего в этом не было странного. Он был похож на других и не отличался от остального человечества ничем существенным; так что вполне естественно, что его задела за живое ежедневная пропаганда, твердившая, что евреи не такие, как все; так задела, что во время оккупации он радовался настигавшим его под желтой звездой острой зубной боли, коликам или гонорее — как дружескому знаку свыше, назначением которого было успокоить его относительно его человеческого характера. Все это, конечно, с усмешкой, все с усмешкой: в конечном счете он доводил свой юмор до своего рода настоящего зубоскальства. Ренье тоже страдал — он в этом довольно быстро убедился — от острого желания быть принятым в жилище чужака как брат, а ведь Ренье был чистокровным французом и, казалось бы, не должен нуждаться ни в ком; как странно, думал Ла Марн с некоторой настороженностью. Инстинктивно Ла Марну казалось, что когда ты француз, братство тебе ни к чему, что это словечко из обихода лиц без гражданства. Он далее был немного разочарован, когда обнаружил эту потребность у человека, утверждавшего, что он французский патриот, и дошел даже до того, что провел несколько быстрых расследований, дабы убедиться, к примеру, что настоящее имя Ренье не Райнер, оно могло быть именем, распространенным в Центральной Европе, и это бы тогда все объяснило. Впрочем, он бы, разумеется, предпочел, чтобы Ренье был ярым националистом, шовинистом и даже слегка антисемитом, без крайностей, разумеется, — ото придало бы больше ценности, больше веса дружбе, которую Ренье выказывал к Ла Марну, — это и вправду сделало бы из этой дружбы что-то личное. А так… Это ничего не доказывало. Не говоря уже о том, что француз, стремящийся ко всеобщему братству, все же смахивает на тряпку. Это, в конечном счете, слегка принижало Ренье в глазах Ла Марна. Он даже немного сердился на него за это. Он не мог избавиться от ощущения, что у француза, облагодетельствованного историей Франции и имевшего право на Жанну д'Арк, Наполеона, де Голля и маршала Петена, стремление ко всеобщему братству, к Европе, к отмене границ было признаком сумасшедшинки. Лично он, Ла Марн, никогда бы не уступил ни пяди Империи, запретил бы массовую натурализацию, доступ натурализованных к постам в администрации. Но это чувство, переходившее порой в ярость, наполняло его настоящим стыдом и приводило в растерянность, потому что это было не французское чувство. Есть в этом, признавался он себе, экстремизм души, проявляющийся еще в том, что он не чувствует себя как дома на берегах Луары. Но это не страшно, подумал ок. Тот, у кого нет ни Луары, ни Дюранс, тот, кто выучил басни Лафонтена не на коленях своего отца, тот, кто всю свою жизнь покупал вино у торговцев, одним словом, тот, кто никогда не бежал полями с ранцем под мышкой, в черном фартучке и с беретом на голове, может обрести все это во вздохе, возвращаясь из леса, после любви. С такой, как у меня, рожей сделать это нелегко, попробовал он притормозить себя. Но достаточно дружеского прикосновения чьих-нибудь волос, чьей-то шеи у ваших губ, что подобно ожившему счастью, и в вас уже ничего не осталось от лица без гражданства и, пусть все вам воздается. Он поймал себя на месте преступления — его глаза увлажнились, — и он попытался заскрежетать зубами, по, не найдя никакого тона, соответствовавшего высоте своей репутации разорителя святых земель, высморкался, чтобы перевести недозволенное из глаз в нос. Остались только генерал де Голль да я, подумал он.
— Педро, еще один рог в лесной чаще. Со льдом.
— Вы опоздаете на корабль, — сказал Педро.
Обычное отношение Ла Марна к жизни сводилось к беспрерывной пародии: так он пытался обезоружить ее прежде, чем она доберется до него. Вероятно, у юмора нет иных истоков, кроме этого желания смягчить удары, возобладать над тем, что причиняет вам боль… Но доведенный до определенного предела юмор в конечном счете становится настоящей священной пляской, и именно так Ла Марн мало-помалу превратился в настоящего вертящегося дервиша, который уже не мог больше остановиться из страха пасть перед лицом реальности.
Первый разговор, который состоялся у Ренье со своим будущим другом, произошел сразу после Освобождения, спустя несколько недель после того, как он приступил к своим эфемерным обязанностям шефа сыскной полиции Ниццы, на улице Джоффредо: его первая работа состояла в глубоком изучения личных дел сотрудников, поставленных непосредственно под его начало, — он вызвал Ла Марна.
— Я заглянул в ваше личное дело.
Ла Марн ждал, все его лицо расплылось в выражении угодливой предупредительности. Позднее Ренье немедленно бы раскусил эту игру: Ла Марн изображал иерархические отношения между полицейским и его начальником, а это уже было способом изобличения.
— Я здесь нашел вынесенный вам приговор от 30 июня тысяча девятьсот сорокового года за публичные развратные действия.
Ла Марн быстро кивнул, и на его лице открыто нарисовалось выражение исполненного долга.
— Совершенно верно.
— Я буду вынужден потребовать вашего увольнения.
— Жаль, — сказал Ла Марн. — Я всегда лишь исполнял свой долг.
— И в этом случае тоже?
— В этом случае нет, господин директор, но это был трагический час, и со мной случился приступ. гм. приступ солидарности. Видите ли, я воздерживался всю свою жизнь. Но когда Франция пала, в этом уже не было необходимости. Я тоже дал себе волю. Мне захотелось как-то отметить это, в некотором роде тоже пасть. Я не мог оставаться единственным незапятнанным, не дрогнувшим посреди всего этого. Мне захотелось каким-то ощутимым образом приобщиться ко всеобщему поражению, к апокалипсису.
— Малышке было четырнадцать лет.
— Мои моральные устои внезапно рухнули, — сказал Ла Марн.
— И с тех пор не поднимались? — спросил Ренье.
Ла Марн заморгал своими длинными ресницами и с нежным упреком взглянул на Ренье. Но Ренье еще не знал тогда этого лирического клоуна и ничего не понял в этом зове, приглашавшем его спуститься на арену и поиграть.
— Мой поступок, естественно, был высоко символичен и бескорыстен, — сказал Ла Марн, — но он оказался весьма полезным. Во время своего ареста я совершенно естественно обзавелся некоторыми знакомствами. Ничего нет лучше хорошего прямого контакта. Именно так я смог попасть в бригаду нравов.
Он снова взглянул на Ренье — но ничего не происходило. Он вздохнул, поправил свои длинные волосы жестом виртуоза — как какой-нибудь Паганини пережитого.
— Вы, разумеется, можете ходатайствовать о своей реабилитации, — сказал Ренье сквозь зубы. — Ваша деятельность в Сопротивлении дает на это право. Этот, это пятно исчезло бы из вашего дела.
Ла Марн бросил на него торжествующий взгляд:
— С вашего позволения, я ничего не стану с этим делать, господин директор. Надо так надо, вот мой принцип. Мы с матерью скромные люди, без больших перспектив. Этим маленьким делом в моем досье. — Он доверительно понизил голос: — Понимаете, я подставляю себя под удар. Я предоставляю гарантии: известно, в чем мой грех. Так что я внушаю доверие. Я даю начальству возможность ощутить свое могущество надо мной. Они меня держат на крючке… Понимаете: я даю повод. Я в их власти. С этим казусом в моем личном деле мы с матерью переживем все политические режимы. Мы спокойно будем продолжать наш славный путь. Возможно, даже получим повышение. Я уже проходил через такое при режиме Виши.