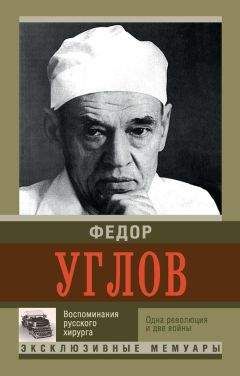Лежа в первый раз в постели с той женщиной, с которой меня чуть не заарестовали в Пассейике, я замурлыкал. Я годы не вспоминал об этой подробности, но на днях, когда мне вспрыгнула на колени чужая кошка, она вдруг пришла мне на память. Диван был скрипучий, обитый популярной когда-то в пригородах светлой гаитянской тканью, и, щедро накачав подругу собой — своим генетическим суррогатом в белковой оболочке, — я лежал сверху и медленно остывал. «Послушай», — сказал я и прижался щекой к ее щеке, все еще горячей, чтобы она уловила тихий рокочущий звук животного удовлетворения, который рождало мое горло. Я не думал до этого, что способен его издавать, но звук, оказывается, жил у меня внутри и дожидался, пока я стану счастлив и выпущу его наружу. Она услышала. Ее глаза в нескольких дюймах от моих изумленно вспыхнули, и она засмеялась. В детстве я рос послушным, религиозным мальчиком, но в тот момент я понял, что открылось прибежище подлинного смысла, где жизнь не нуждается ни в каких обоснованиях, и на меня снизошла умиротворенность, которая так с тех пор и не покинула меня окончательно: отдельные ее лоскутки еще не отлипли.
Несколькими годами раньше, до нашего романа, мы, три или четыре молодые супружеские пары, сидели однажды на летней веранде и курили. Когда она закинула в мини-юбке ногу на ногу и мелькнула внутренняя сторона бедра, вдруг у меня во рту пересохло, да так резко, будто налетел ветер из пустыни. Физиология наша — демон, изгнать которого мы не в силах. С той минуты она, эта женщина, была у меня на особом счету.
Пока жена не расстанется со своей электроникой и не ляжет, мне обычно не спится. Потом, в три часа ночи, в полной тишине, когда ни одна машина не едет по городку, когда не катится домой ни поддатый юнец, ни удовлетворенный распутник, я просыпаюсь и дивлюсь тому, как спокойно она спит. С некоторых пор она, чтобы волосы не растрепывались, стала повязывать себе на ночь бандану, и два хвостика узла обычно торчат на фоне слабого света от окна, как маленькие ушки. Ее неподвижность трогательна, как и девическая опрятность ее комнаты, как и порядок, в котором она содержит кухню и содержала бы весь дом, если бы я ей позволил. Я не могу снова уйти в дремотную бессознательность: меня, как водомерку, держит на плаву поверхностное натяжение ее чудесного покоя.
Я слышу, как промахивает на рассвете первая машина я жду, когда жена проснется и опять приведет мир в движение. Время течет вязко, застойно, толчками. Она говорит, что я сплю больше, чем мне кажется. Но я точно не сплю, когда она наконец начинает шевелиться: сперва досадливые движения рук, словно она отмахивается от сновидения, затем в набирающем силу утреннем свете она отбрасывает одеяло, и несколько секунд мне видны ее смятая ночная рубашка и торс, переходящий, минуя диагональное, в сидячее положение. Ее босые ноги тихо шлепают по полу, и утро за утром я, пенсионер, приближающийся к восьмидесяти, засыпаю еще на час. Теперь о мире есть кому позаботиться, я ему не нужен и могу расслабиться.
Зеркальце для бритья висит напротив окна, выходящего на море. Оно всегда полно до краев, всегда плоско, как пол. Почти плоско: земная кривизна делает его чуточку выпуклым. По нему неподвижно движутся, покидая Бостонскую гавань, несколько смутно видимых грузовых судов и круизных лайнеров. По ночам горизонт превращается в ожерелье огней — с каждым годом их, кажется, все больше. Самолеты со всех краев земли, мигая, полого снижаются, точно скользя по воздушным канавкам, к невидимому аэропорту в восточном Бостоне. Держа в левой горсти продлевающие жизнь таблетки, я правой рукой беру стакан с водой, подслащенной кратким ожиданием на мраморной полке умывальника. Если я верно могу читать мысли этого чудаковатого старика, он хочет поднять тост за видимый мир, с которым ему скоро надо будет распрощаться, черт подери.
Перевод Леонида Мотылева
Акрон, штат Огайо, — центр резиновой промышленности.
Джентрификация — реконструкция и обновление строений в прежде нефешенебельных городских кварталах.