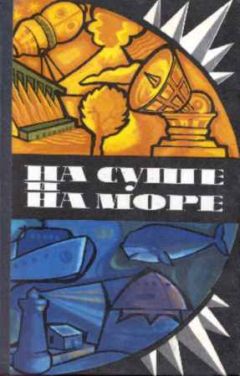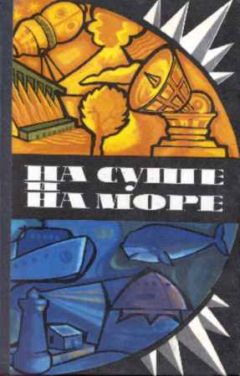К рассвету я захватил боевой люд в ликовании на площади, которая скоро получила соответственное название — Свободы. И так воистину романтически, чисто светились глаза! Лица были одухотворенны, полны чувства значительности свершенного!.. Во многих, если не в большинстве, из ратников новых свобод угадывались представители НТР с их характерными очечками, аккуратными бородками, гладкими стрижками. Они в эти дни оказались самым революционным классом; тогда им, будущим челнокам, рыночным торговцам или даже создателям АО, наверное, мерещились честно защищенные диссертации, открытия, признание…
Празднично гремела музыка. На высоком крыльце «Белого дома» название, также появившееся в те дни и, по существу, выражающее их дух, раскованно и грациозно танцевал парень. И скорее всего, его не нанимали. Восторг!..
Наиболее активные, или непримиримые, вскрывали люки брошенных бронетранспортеров, зорили, раздавали патроны на сувениры подступающим с разных концов горожанам или, точнее, россиянам.
Взял и я патрончик. Но в электричке, по пути восвояси, стал он мне мешать, как дурной знак. Да и не хотел я, чтоб он лежал у меня дома, этот патрон! Выкинул я его из окна в высокую траву.
Вагон был полупустым. Люди дремали. Несколько мужиков, то ли бригада, то ли постоянно ездящие в это время по одному маршруту, собравшись кружком, привычно расписывали пульку.
В автобусе мне показалось, что я попал в монолит: на смену ехали заводчане. Молчаливо, обыденно. Будто не было минувшей ночи, а я возвращался из фильма, который здесь не показали.
Я подходил к дому, представляя чувства отца. Как бы там ни было, советская эпоха — это вся его жизнь! Воззвания ГКЧП — еще и признание ее ценности…
— Ха-ха! — раздался передо мной все тот же мощный хлопок в ладоши, едва я раскрыл двери. — Всё! Конец ГКЧП! — раскинул отец матерые пятерни. Ну, теперь им Ельцин хвосты накрутит!..
* * *
Через недельку отец уехал, ибо ко всем прочим разочарованиям у нас еще и погода «завшивела».
Объявления его еще долго висели по всему городку, шелестя на осеннем ветру отклеивающимися концами. И каждый раз, когда я натыкался взглядом на выцветающий знакомый текст, в моем воображении взвивался маленький смерч, который бежал каруселью пыли по земле неведомо куда и зачем.
Но самое удивительное, не поторопись отец, то и в нашем городке обрел бы так необходимое ему право голосовать: две старухи по этим его объявлениям все-таки приходили!
Однако он уже нашел себе спутницу жизни в любезных ему южных широтах, где, видимо, «той» старухи — как арбузов на бахче!
Я в его краю, под Ташкентом, оказался два года спустя. Был у меня всего день. Полуобморочный от сорокаградусной жары, нашел я нужный дом, квартиру. Писем от отца не было с полгода, что не в его характере, поэтому нажимал звонок я с некоторой опаской: над годами никто не властен… Дверь открыла невысокая, костистая старуха, видно, из сибиряков, которые здесь составляют большинство русского населения.
На мои слова она потянула голову и подставила ухо.
— Александра Степановича! — прокричал я.
— На кладбище, — махнула она и жалостливо склонила голову набочок.
Так я привык, что где-то бродит чудак человек по белу свету, от которого я и произошел, — меня всегда это удивляло, особенно когда смотрел на него со стороны, чувствуя себя совсем иным, другого рода. Вот дядьев по матери или даже чужих по крови мужей ее сестер, с кем рядом вырос, — тех сразу ощущал кровно родными. А отец — это миф, образ, блуждающий мираж… Неужели?!
— Я сын его! Сын! Из Москвы…
Она, всплеснув руками, пошла впереди. Шагала споро, бодро.
Кладбище оказалось рядом, за ближайшими домами.
— В лихую годину родилась Авдотья Никитична!.. — раздавался над могилами, сотрясая жару и сам вечный покой, зычный знакомый командный голос. Родной.
Отец стоял во главе похоронной процессии.
— Всю жизнь она бережно хранила любовь к земле великой среднерусской Смоленщины, — взмахивал он рукой на манер полководцев, — но последний приют нашла в земле братского суверенного Узбекистана!..
Увидел меня, распахнул обе руки, подняв и неизменную лыжную палку.
— Господа товарищи, ко мне приехал сын, представитель России.
Торжественно меня обнял, как представителя. Его нагнала женщина, стала давать ему деньги.
— Не надо мне этой дряни, — отмахивался отец.
Но женщина все-таки сунула ему свернутые бумажки в карман.
— Деньги — говно, — продолжал по пути отец. — Могу зарабатывать — три семьи кормить! По два-три раза на дню приглашают на выступления. Денег иные дают немерено, я стараюсь не брать. Особенно доллары эти презираю. Суют!..
— Красненькую взять? — подсуетилась заискивающе старушка.
— Мои дети — не пьют! — прибил нас отец обоих со старушкой к земле. — Глухая, понимаешь, совсем, а выпивает! Сошлись — еще вроде слышала все, а сейчас глохнет и глохнет!..
Еще бы!..
— А у меня во! — отец по-детски ощерился, показывая… о Боже!.. проклевывающийся ряд молочных детских зубов! — В восемьдесят лет стали расти. Двадцать семь зубов! Я пять за жизнь выдирал, так те не растут, а которые сами выпали, стали расти. Но они сейчас медленно растут, не как у младенцев. Вот за год всего как выросли. Года три, мне врач сказал, расти будут.
— Так тебя, может, в книгу Гиннесса?
— Нет. Такое бывает. Не часто, но бывает.
Старушка пошла домой, а мы с отцом прямиком отправились на рынок. Действительно никогда не считавший деньги отец рядился за мелочь до ругани. Дыни он царапал ногтем, проверяя зрелость, и почти каждому из торгующих «дал нагоняй» за то, что рано сорвали или долго везли… Это было время, когда по всей нашей распавшейся стране катились волны националистических распрей. И я ждал, что кто-то из продавцов-узбеков скажет, мол, дед, дуй к себе в Россию и там указывай! Ничего подобного! «Аксакал, понимает», уважительно кивали они головами.
Наконец он выбрал две дыни. Я взял одиннадцатикилограммовую, а отец семикилограммовую. Жара меж тем вошла в полную полуденную силу. Ладно, если бы мы были где-то в селе, среди деревьев и саманных домиков. Но в центре пробетонированного города, где от зноя исходит пеной асфальт, едва поспевая за отцом, я взмолился:
— Как ты можешь тут жить?! Дышать же нечем!
И тогда отец сказал мне слова, пред которыми мог бы обезмолветь сам Сократ. Родившийся за год до Первой мировой, переживший на веку несколько войн, революций и социальных формаций, в умопомрачительную жару шагая размашисто впереди с лыжной палкой и семикилограммовой дыней, он огласил окрест:
— Я могу хоть в валенке дышать!