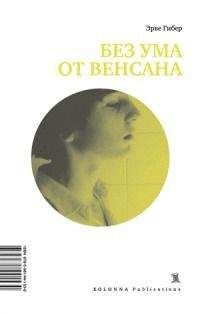Я, белый человек, среди черных детей, нищих, жополизов, пожирателей желудей, лохмачей, сосунов костного мозга и сопель, нюхачей воска, охотников на дурачка, расхитителей, живодеров, ловящих кошечек, колдунов, насылающих порчу, искателей меда в мушином лесу, я, белый человек в панаме, с моими белыми детьми, которые находят для меня новые тропки, счищают грязь с моих башмаков, разгоняют оцелотов, чей сиплый зов меня устрашает, они мои соблазнители, мои провожатые, мои загонщики, я пересекаю оазис, я привожу их в храм, чтобы принести в жертву богу папируса, бледному идолу Эжену[4], я оскопляю их, еще не достигших половой зрелости, с помощью тонких шнурков (еще я дарю скрытному и притворному богу чистейшие стоны и жалобы, восхитительнейшие записи), вместе мы забавляемся тем, что делаем приманки, плетем коврики посреди пальм, дабы заставить споткнуться негритянские ноги детей, приторговывающих камушками, пожрать их ночью, сваренных в месиве из засахаренных фиников.
Воскресенье, 4 апреля
Пляж. Некрасивый ребенок похоронил себя в кишащем червями песке, чтобы ощутить прохладу, виден только его нос и палец ноги, о котором он позабыл, он заботливо защитил веки платком, он ничего не страшится. Очаровательный ребенок прыгает в жарком воздухе, я делаю с него набросок в синеватой дымке, которую он приводит в движение каждым ударом ракетки, однако у него нет партнера для бадминтона (его взрослый друг уснул, пожевывая стебель мака), он играет ради одного моего удовольствия, я склоняюсь над бумагой верже, снова и снова черчу тонким и сухим штрихом каждый его изгиб, кривые его прыжков, завтра я добавлю цвет, завтра у меня будет тюрбан, который я попросил покрасить, я выбрал с женщинами чан самой яркой краски (говорят, ее добывают из расплавленной на солнце смолы бальзамического тополя меж двумя равноденствиями), и завтра с этим розовым покрывалом, повязанным на висках, которое, распустившись, спадет на плечи, он разденется, как мне обещал, и для меня станцует. Взамен я открыл ему один секрет и пообещал, что научу его говорить по-сабирски.
Понедельник, 5 апреля
Дети прикрепили меня веревками к саговой пальме, чтобы научить плавать. Перевязанный ремнем внизу живота и раскачиваемый изогнутой стянутой веткой, я пока еще не касаюсь воды (все ли здесь столь дики, чтобы не признавать существование спасательных кругов?). В горизонтальном положении, все время под угрозой, что веревка разорвется или же я слишком сильно вдохну, я пытаюсь плыть в воздухе, однако, если кто-нибудь посмотрит на меня издали или снизу, как это делает взрослый, фотографируя (за что хочет он отомстить?), я прекрасно понимаю всю смехотворность моего положения, я только дрыгаюсь и царапаю себе нос. Урок плавания быстро перешел в шутку, а для меня в пытку: у корней саговой пальмы некрасивый ребенок держит веревку, которая в любой момент может заставить меня упасть, у его ног (случайно ли это?) лежит топор. А очаровательный ребенок, в свою очередь, держит тросточку, которой не перестает укрощать мои бешеные движения и еще украдкой шлепать по заду и щекотать ноги, которые я имел неосторожность оставить голыми. Что же касается взрослого, он складывает руку козырьком, смотря против солнца, и, весь смеясь, с особым удовольствием ловит на моем лице признаки паники и возвещает о появлении в океане кружащих черных плавников. Меня то опускают, то поднимают, давая испить всю чашу, я сыплю мольбами и проклинаю своих родителей, которые никогда не учили меня плавать, испытываю систему подъемника, в сооружении которого только что имел глупость принять участие. Когда я появляюсь из теплой воды, поднимаемый на скорости на такую высоту, что у меня кружится голова, с меня позорно течет. Если бы не эти дерьмовые обезьяны, уродующие дерево, я бы мог еще сохранить остатки достоинства. Я умоляю опустить меня и отвязать, - напрасно, дети ставят всевозможные условия, одно неприемлемее другого (чтобы я голый танцевал на деревенской площади, чтобы я ел их экскременты, чтобы я целый час оставался со связанными за спиной руками, с тремя скорпионами в плавках). Но, так как мои мольбы прекратились и дети решили, что черные плавники слишком быстро исчезли (плотоядным не хватало опьянения вкусом крови), злой ребенок прикрепил к концу своей тросточки небольшую иглу, которой на этот раз начал в разных местах колоть мои ступни, чтобы кровь закапала в воду. Но, когда акулы и в самом деле приплыли, пуская в танце красные вихри, в последний момент маленькие кретины освободили меня. Подтрунивающий надо мной взрослый подошел спросить, указывая на очаровательного ребенка, словно желая связать это с пыткой: «Какой же секрет ты ему открыл, чтобы он стал вдруг таким мрачным?»
Пятница, 26 марта
Провел вторую половину дня в поисках словаря сабирского языка (ибо я поклялся научить ребенка на нем говорить). Сначала меня отправляют из одного книжного магазина в другой, а после к специалисту по арабским языкам, Адриану Мэзоннёву, в дом 11 на улице Сен-Сюльпис. Хаотичный Капернаум невероятных размеров из пожелтевших бумаг, сваленные в кучу обвязанные веревкой пыльные реестры, вековые счета, старые марки, большие, как бабочки, с колониальными гербами. Сам торговец книгами сидит надо всем этим в небольшом ялике под стеклянной крышей, которая едва освещает книжную лавку. Продавщица должна отойти от клиента к книготорговцу, подняться по лесенке и выдохнуть свою просьбу в акустическую трубку. Старый торговец отказывается лично общаться с клиентами, он их не замечает. Я в восторге, когда моя просьба заставляет его взреветь злобным смехом: «Сабирского языка? Но, бедненький ты мой, сабир - это не язык, ты должен понимать, что кошку следует называть кошкой, а тарабарщину - тарабарщиной...» Таким образом, я разыскиваю, чтобы научить ему ребенка, язык, который не указан ни в одном библиотечном каталоге и у которого даже нет собственного словаря, который, может быть, не язык, а лишь безграмотная помесь всякой белиберды и салам алейкумов.
Вторник, 6 апреля
Мы заходили к обувщику, делающему сандалии, чтобы он выкроил из импалы самые мягкие подошвы для ног красивейшего ребенка, и чтобы подобрать ремешок, который удобно закрепит их на лодыжках; мы остановились на коже маленькой змейки, чьи глаза заменены двумя зерновидными камушками, но это был напрасный труд, ребенок ходил в новых сандалиях не более часа, потом он их снял и швырнул отряду нищих детей, фазу их сцапавших (по вечерам мы проверяли вечно перепачканные в земле ступни детей, мы соскребали корку, чтобы проверить, нет ли под ней ран). Потом мы зашли к бандажисту, чтобы перевязать затылок самого гадкого ребенка, из которого мы вытащили жало (длительное пребывание в земле не принесло ему ничего хорошего). Потом, прикрывая рты тюлем, процеживающим уличную охровую пыль, мы шли, сторонясь фанатиков, бродяг, мужчин в платьях, звездопоклонников, небожителей, хотевших продать нам пророчества, глиняные карты, звездные системы, усеянные по синему кобальту золотисто-желтыми точками, огненные камни; они дергали нас за руки и в ужасе отталкивали их, взглянув на ладони, под солнцем, стоящим в зените, наши ладони были зеркалами, отражающими величайшие потрясения, сокрушающие целые селения метеоры. Мы пересекли медину, чтобы скрыться от солнца и вернуться к нашим гамакам, к прохладной струе воды турецкого бассейна. Чтобы опередить сиесту, у человека в тюрбане были заготовлены влажные головные повязки с цветами апельсиновых деревьев, и на серебряном блюде лежали шарики из крупы, намоченные розовой водой, они немного пресные, но чудесным образом нас расслабляют, сразу же погружают в дрему. Человека в тюрбане больше не было, он посыпал тальком наши бабуши, потом исчез, может быть, он притаился в тени, положив руку на серебряный кинжал, разжигая огонь, чтобы отогнать диких животных (полотно шатра, защищающего нас от пустыни, слишком тонкое). Единственное, что его выдавало, это блеск более белых глаз или же слеза его единственной серьги из слоновой кости. Дети разделись и бросились в гамаки, закрутив их, завертев так, что стали лишь длинными веретенами смеющейся и содрогающейся плоти. Тогда пришел песочный человек, чтобы взять их, и я встал между ним и избранным мною ребенком. Некрасивый ребенок с белым затылком, забинтованным льном, был уже почти без сознания, но прошептал в начале своей лихорадки несколько бессвязных слов. Склонившись над ним, и тихо, сколь это было возможно (я не хотел, чтобы меня слышали за ширмой), я ему говорю: «Ты самый красивый ребенок земли», и он мне отвечает: «А ты самый красивый взрослый земли и грязи». Я уснул под ним, и его круглый живот стал моим волшебным покрывалом.