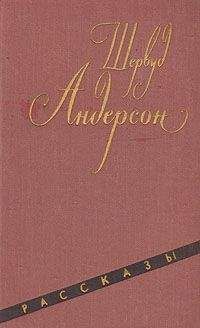«Ха! Вот оно что! Ты владеешь сейчас, но скоро буду владеть я!»
«Сначала ты пойдешь ко всем чертям!»
«Глупый ты человек! Я-то не собираюсь».
Ни одна из приведенных выше фраз не была произнесена вслух в ту минуту, и позднее Мэри никак не могла точно вспомнить те слова, которыми обменялись мужчины. В Доне вдруг вспыхнула решимость — может быть, внезапная решимость стать на сторону матери, может быть, даже что-то другое, какое-то чувство, вызванное именно тем, что в жилах Дона текла эспинуэлевская кровь: в эту минуту любовь к деревьям пересилила любовь к траве — к траве, на которой будет жиреть скот. Обладатель призов Четвертого клуба, чемпион по выращиванию маиса среди мальчиков, оценщик скота, влюбленный в землю, влюбленный в собственность.
— Нет, ты этого не сделаешь! — повторил Дон.
— Чего не сделаю?
— Не спилишь этих деревьев.
Отец промолчал: он отошел от стоявших вместе жены и детей и направился к сараям. По-прежнему ярко светило солнце. Дул резкий, холодный ветер. Оба дерева пылали, как костры, на фоне далеких холмов.
Был уже первый час. Показались двое парней, работавших на ферме: они жили в домике за амбарами. Один из них, с заячьей губой, был женат, другое, довольно красивый молчаливый юноша, столовался у него. Они только что позавтракали и направлялись к сараю. Наступило время осенней уборки урожая, и оба должны были идти на дальнее поле убирать маис.
Отец подошел к сараю и вернулся с обоими мужчинами. Они несли топоры и большую, поперечную пилу.
— Надо спилить те два дерева!
В этом человеке, Джоне Грее, была какая-то слепая, даже глупая решимость. И в этот миг его жена, мать его детей… Никто никогда не узнал, сколько таких минут пришлось ей пережить. Она вышла замуж за Джона Грея. Это был ее муж.
— Если ты спилишь их, отец… — холодно произнес Дон Грей.
— Делайте, что я велю! Пилите! — обратился Грей к рабочим.
Тот, у кого была заячья, губа, засмеялся. Его смех походил на крик осла.
— Не надо! — Теперь Луиза обращалась не к мужу; она подошла к сыну и положила руку на его плечо. — Не надо!
«Не серди его! Не серди моего мужа!» Разве мог полуребенок, каким была Мэри Грей, понять? Невозможно постигнуть сразу все, что происходит и жизни. Жизнь медленно разворачивается перед умственным взором человека, Мэри стояла возле Теда. На его побледневшем детском лице было напряженное выражение. Рядом с ним — смерть. В любую минуту. В любую минуту.
«Сотни раз я переживала нечто подобное… Вот так и добился успеха в жизни человек, за которого я вышла замуж. Он не останавливается ни перед чем. Я вышла за него замуж; я родила от него детей.
Мы, женщины, избираем своим уделом покорность. Это больше касается меня, чем тебя, Дон, сын мой!»
Женщина, крепко держащаяся за свое — за семью, возникшую вокруг нее.
Сын не смотрел на вещи ее глазами. Он стряхнул со своего плеча руку матери. Луиза Грей была моложе мужа, но, если ему оставалось недалеко до шестидесяти, она приближалась к пятидесяти годам. В эту минуту она казалась очень нежной и хрупкой. В ее поведении в эту минуту было что-то такое… Значит, было все-таки нечто особенное в ее крови, крови Эспинуэлей?
Может быть, в тот миг маленькая Мэри все же смутно кое-что поняла. Женщины и их мужчины. Для нее в то время существовал лишь один представитель мужского пола, мальчик Тед. После сна вспоминала, как он выглядел в ту минуту, вспоминала необычно серьезное, старческое выражение его детского лица. Это лицо, думала она позднее, выражало презрение и к отцу и к брату, будто он мысленно говорил — на самом деле он не мог так говорить, он был слишком молод: «Ну что ж, посмотрим. Это интересно. Глупые, глупые люди мой отец и мой брат. Мне-то самому осталось недолго жить. Посмотрим, что я могу сделать, пока я все-таки жив».
Брат Дот подошел ближе к отцу.
— Если ты их спилишь, отец… — снова начал он.
— Что тогда?
— Я уйду с фермы и больше сюда не вернусь.
— Хорошо. Иди!
Отец стал давать указания работникам, начавшим подпиливать дубы; каждый взял на себя одно дерево. Парень с заячьей губой продолжал смеяться, и смех его напоминал крик осла.
— Перестань! — резко сказал отец, и звук круто оборвался.
Дон пошел прочь, направляясь, видимо без всякой цели, к сараям. Он подошел к одному из них и остановился. Мать, побелев, убежала в комнаты.
Сын повернул к дому, пройдя мимо младших детей и не взглянув на них, но в дом не вошел. Отец не смотрел на него. Дон нерешительно пошел по дорожке, которая вела к забору, открыл калитку и вышел на шоссе. Шоссе на протяжении нескольких миль тянулось по долине, а затем, сделав поворот, вело через горы к главному городу округа.
Вышло так, что только Мэри видела Дона, когда он вернулся на ферму. Прошло три или четыре дня, полных напряжения. Быть может, мать и сын втайне поддерживали все это время связь. В доме был телефон. Отец с утра до вечера не возвращался с полей, а когда бывал дома, хранил молчание.
Мэри находилась в одном из сараев в тот день, когда Дон вернулся и когда отец и сын встретились. Это была странная встреча.
Сын явился, как постоянно думала впоследствии Мэри, с довольно, глупым видом. Отец вышел из конюшни. Он засыпал зерно рабочим лошадям. Ни отец, ни сын не видели Мэри. В сарае стоял автомобиль, и девочка, забравшись на шоферское сиденье, держалась за рулевое колесо: она забавлялась тем, что будто бы правит машиной.
— Ну? — произнес отец. Если он и торжествовал, то не показывал своих чувств.
— Ну вот, — ответил сын. — Я вернулся.
— Вижу, — сказал отец. — Там убирают маис. — Он пошел было к дверям сарая, но остановился. — Он скоро станет твоим, — добавил старик. — Тогда и будешь командовать.
Больше он ничего не сказал, и оба ушли: отец по направлению к дальним полям, сын по направлению к дому. Мэри потом была твердо убеждена, что разговор на эту тему никогда не возобновлялся.
Что имел в виду отец?
«Когда он станет твоим, будешь командовать». Это было непонятно для девочки. Знание приходит постепенно. Слова отца означали:
«Ты будешь распоряжаться, и тебе, в свою очередь, придется отстаивать свою власть.
Такие люди, как мы, не могут вдаваться во всякие тонкости. Одни созданы для того, чтобы распоряжаться, а другие должны подчиняться. Когда придет твоя очередь, ты тоже заставишь других подчиняться.
Есть особый вид смерти. Что-то должно умереть в тебе, для того чтобы ты мог владеть и распоряжаться».
Очевидно, были разные виды смерти. Для Дона Грея один вид, для младшего брата Теда — и теперь уже, может быть, скоро — другой.
В тот день Мэри выбежала из сарая со страстным желанием выйти из тьмы на свет, и впоследствии она долго даже не пыталась разобраться в случившемся. Однако и Мэри и ее брат Тед потом, до того как он умер, часто обсуждали вопрос об этих деревьях. В один из холодных дней они отправились к пням и дотронулась пальцами до их срезов, но пни были холодные. Тед продолжал утверждать, что ноги и руки отрезают только мужчинам, а Мэри спорила с ним. Они по-прежнему делали многое из того, что было запрещено Теду, но никто их не останавливал, и год или два спустя, когда Тед умер, он умер ночью, в своей кровати.
Но пока он жил, от него веяло, как думала впоследствии Мэри, необычайной любовью к свободе, и проводить с ним время всегда было приятно, было просто большим счастьем. Это объяснялось тем, решила она наконец, что Теду, которому суждено было умереть, не было надобности сдаваться, как сдался его брат — боясь лишиться своих владений, своей удачи, своей очереди распоряжаться. Ему, Теду, никогда не грозила та более утонченная и страшная смерть, какая постигла его старшего брата.