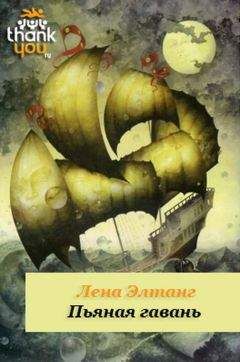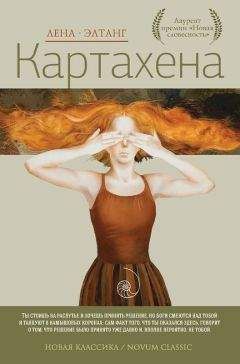— Значит, теперь ты будешь Лука. — Она подвинула одеяло вниз, чтобы я посмотрел на ее груди, похожие на две канталупы, и тугой живот с наколкой, света было мало, и рисунка я не разобрал. — Иди сюда. Того, прежнего, тоже по-другому звали, только я не спрашивала.
На ощупь канталупы оказались перезрелыми, к тому же нечесаные волосы бурятки лезли мне в рот и я все время отплевывался. Женщине было не меньше сорока, и она скрипела и ворочалась, будто мельничный жернов, — два дня назад я бы выбросил такое из своей постели, но теперь выбирать не приходилось. К тому же она оказалась не дура покурить и даже показала мне, как делать наяк, если кончились папиросы, но есть шариковая ручка. Под утро, накурившись наяков, я рассказал бурятке про мертвеца в проруби, и тут она меня наконец удивила.
— Ты что, оставил его плавать? — Она рывком поднялась и села у меня в ногах, с койки мы давно уже свалились и лежали теперь на сложенных вместе пальто. — Вытащи и закопай! Лука-то закапывал, видел на берегу кресты из рябиновых веток? Вот там и закапывал.
— Да пошла ты… — Мне вдруг стало холодно, и я встал, чтобы принести из камбуза дров. — Что я тебе, могильщик здешний? Ясно, что он уплыл давно, мертвец этот. Откуда их приносит, из Пьяной гавани, что ли?
— Не знаю откуда, — хмуро сказала гостья, — знаю, что часто. Похоронить надо.
Она встала и принялась собирать свои тряпки, бормоча что-то себе под нос. Я тоже оделся, снял с печки покоробившиеся от жара ботинки и с трудом натянул их на ноги. Мы выбрались на палубу, и ветер с залива ударил нам в лицо. Снежная взвесь, стоявшая в воздухе, была такой плотной, что я сначала принял ее за клочья тумана, в которых затерялась береговая линия, но снег облепил мне лицо и волосы, и сразу стало трудно дышать.
Спускаться по стволу бурятка не стала, она перелезла через поручень возле радиорубки, села на край борта, спустила ноги на привальный брус, привычно развернулась, встала на автомобильную покрышку и спрыгнула на лед, держась руками за канат. Я последовал за ней, стараясь повторить все ее движения, но зацепился полой пальто за какую-то ржавую пластину и полетел вниз, лед подо мной хрустнул и пошел длинной зазубренной трещиной. От удара конопляная муть в голове разошлась: я почувствовал, что голоден как пес, пальто зачерпнуло воды, и спина под ним мгновенно покрылась гусиной кожей. Женщина шла так быстро, что, пока я вставал и отряхивался, она уже оказалась возле проруби и стояла там, перегнувшись через проволочную сетку, издали похожая на рыбака в своей нелепой ушанке на меху.
— Лука, — крикнула она, махая мне желтым шарфом, — он здесь! Давай…
Дальше я не разобрал, ее голос утонул в вязком снегу, забивающем уши и ноздри. Добравшись до проруби, я встал на колени и увидел маячившее в воде знакомое гладкое лицо. Волос на голове у него не было, то есть совсем ни одного, значит, то, что я видел вчера, было париком, и его унесло течением. Помню, я еще подумал, что утопленник тоже от кого-то скрывался, да только не скрылся. Не нашел своего катера. Ухватить тело было не за что: куртка, похоже, намокла и утонула, а свитер, который я пытался подцепить двумя кольями, будто двузубой вилкой, тут же разъехался в гнилье, показав мне безволосую, выпуклую, как у пупса, грудь мертвеца. Мы провозились около получаса, за это время тело несколько раз уходило под лед, пропадая из глаз, но каким-то чудом возвращалось назад. Наконец я сделал из шарфа петлю, поймал в нее голову утопленника и выволок тело на лед, едва не сломав ему шею.
На рассвете ветер утих, и берег снова обозначился ровной линией с черными кудлатыми охвостьями барбариса и ольхи, между кустов я различил несколько крестиков, издали казавшихся птичьим кладбищем. Мы оттащили мертвеца на берег, нашли на палубе отломанную крышку от форпик-люка и выкопали неглубокую могилу — просто в снегу, промерзлую землю копать было бессмысленно. Лицо у него было чистым, рыбы его не тронули, бурятка попыталась закрыть ему глаза, но веки упруго вернулись на место. Я забросал труп снегом и воткнул в сугроб крест из веток, перевязанных желтым шарфом.
В кубрике даже стены закуржавели, из печи несло старой гарью. Нужно было искать дрова, чтобы просушить одежду, но я так вымотался, что взял багор и разнес в щепы дощатую перегородку, отделявшую камбуз от каюты.
Женщина собрала обломки, умело растопила буржуйку, разделась догола, вытащила из закута початую бутылку водки, завалилась на мою койку греться и тут же заснула. А я набил рот черствым хлебом, прихватил ее малахай для маскировки и пошел в город, как был, в мокром пальто. Прогонять бурятку мне не хотелось, а ложиться с ней было стрёмно: при дневном свете я разглядел ее поношенное лицо с плоскими скулами и двумя шрамами, перехлестнувшими щеку наискосок.
Стоило мне выйти на Приморский проспект, как утренний морок рассеялся; добравшись до метро, я поймал себя на том, что радуюсь хмурому потоку подземных людей, сквозь который раньше пробирался, задыхаясь от тоски и смрада, да и случалось это не чаще раза-двух в месяц, когда город стоял в пробках, а я опаздывал. Спустившись вниз, я купил хот-дог и сожрал его, как пес, не отходя от киоска, потом купил еще один и доел его в вагоне, с непривычки закапав пальто жиром, потом случайно увидел себя в темном стекле и засмеялся, вид у меня был босяцкий, несмотря на чисто выбритое лицо.
Ладно, чем хуже, тем лучше.
Выйдя на своей станции, я сделал круг по Торжковской, чтобы подойти к дому с другой стороны, покрутился в сквере, зашел в здание школы, поднялся на четвертый этаж и посмотрел на свои окна. Окно на кухне было открыто, как и два дня назад, зеленую занавеску выплеснуло ветром на подоконник, значит, Анта не возвращалась, она терпеть не может сквозняков. Я спустился в школьную столовую, остановил у стола с подносами пацана лет тринадцати, сунул ему сотню и пообещал еще две, больше у меня все равно не было. Школьник записал номер квартиры на грязном запястье и побежал к моему дому, а я пошел за ним, надвинув малахай пониже на глаза.
Постояв у подъезда несколько минут, я вошел вслед за пацаном, услышал, как он звонит в квартиру, стучит ногой, как было велено, а потом разговаривает с вышедшей на шум соседкой. Спустившись, пацан молча протянул руку, зажал деньги в кулаке и стремглав вылетел на улицу. В квартире было холодно, как на улице, на полу стояла лужа, натекшая с подоконника, мебель была сдвинута, книги и тряпки свалены в кучу посреди гостиной — обыск он и есть обыск. На кухне все было засыпано битым стеклом, мелким, как зубной порошок, на столе лежал рваный латышкин лифчик, трусов видно не было — либо они успели развлечься с Антой, прижав ее белобрысую голову к столу, либо просто раздели, чтобы напугать, теперь это уже не имело значения.
Я подвинул опустевший посудный шкаф, поднял половицу, вынул пробковый обломок, вытащил бриллиант, подцепив его вилкой, снял ботинок и сунул камень в носок. Потом зашел в спальню, где посреди кровати темнело пятно, похожее на винную кляксу, с трудом натянул на себя два свитера, собрал по всем ящикам деньги и вышел, хрустя стеклянной пылью. Свернув на Аэродромную, я позвонил из автомата скупщику, но тот не ответил, пришлось оставить сообщение, хотя в моем положении это было не слишком грамотно. Я сказал, что буду звонить завтра в это же время и что у меня есть груша для того, у кого есть двадцать стейков, хорошо прожаренных. Дурацкий код, но он это любит, конспиратор хренов. Произнеся это, я почувствовал, что голоден, торопливо истратил тысячу в киоске с шаурмой и вернулся в гавань пешком, через Серафимовское кладбище.
Женщины на катере не было, на столе в камбузе стояла пустая бутылка, буржуйка была набита дровами, а на люке, ведущем в форпик, чернело нарисованное губной помадой сердце. Я растопил печку, выкурил пару косяков, сбросил вонючие тряпки с койки, завернулся в плед и заснул. Мне снились охотничьи сны, причем я был не охотником и не добычей, а кем-то третьим. Перед тем как проснуться, я увидел во сне лису, ослепительную лису, которую псы гнали по пустому белому полю. Она уходила в сторону леса, неслась, приминая сухую ость, торчащую из снега, — красная, тощая, издали похожая на рябиновую ветку с коротким черенком. Не успеет, подумал я, увидев, что собачья свора приближается, нагоняет, но тут лиса остановилась на полном ходу, развернулась, уперевшись передними лапами в наст, взлаяла и превратилась в небольшую собаку. Псы добежали до нее, обнюхали заснеженную собачью морду и помчались дальше. Открыв глаза, я увидел, что свет уже сочится через щель между палубой и люком, за железной стеной гудел февральский ветер, мне показалось, что катер раскачивается, готовый тронуться с места, и я быстро выбрался на палубу. Конопля и хмель еще держались в голове, перед глазами плавали сизые клочья тумана, но, посмотрев в сторону острова, я увидел прорубь и мигом протрезвел.