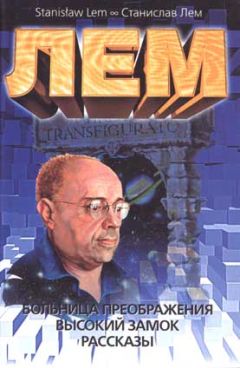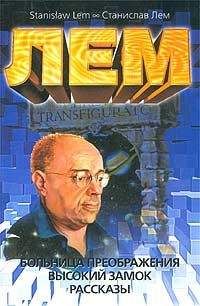— Стефан, сын Стефана и Михалины?
— Да, да, — с готовностью поддакнул он.
Тетушка-бабка улыбнулась ему — довольная то ли своей памятливостью, то ли видом внучатого племянника; взяла его руку своей костистой, высохшей от старости ручкой, поднесла ее к глазам, осмотрела с обеих сторон и потом вдруг отпустила, словно не нашла в ней ничего интересного. Опять посмотрела своими светлыми глазами в глаза ошеломленного всем этим Стефана и сказала:
— А знаешь ли ты, что твой отец хотел стать святым?
Тихонько трижды прокудахтала и, не дав Стефану сказать ни слова, прибавила ни к селу ни к городу:
— У нас еще где-то есть его пеленки, сохранились.
Потом уставилась прямо перед собой и больше не подавала голоса. Между тем дядя Анзельм появился снова и уже энергичнее пригласил всех в столовую, затем отвесил грациозный поклон тетке-бабке и двинулся с ней в первой паре; за ними последовали другие. Тетушка-бабушка не забыла про Стефана, так как выразила желание, чтобы он сел рядом с ней, и тот исполнил ее желание с радостным отчаянием: случается человеку испытывать подобные сочетания полярно противоположных чувств. Суета, сопровождавшая рассаживание по местам, стихла; появился отсутствовавший доселе хозяин, дядя Ксаверий, с огромной фаянсовой супницей, источавшей крепкий аромат бигоса, и, обходя всех по очереди, своей эскулапской рукой с пожелтевшими от никотина пальцами черпал половником бигос и низвергал его в тарелки с такой удалью, что женщины шарахались, опасаясь за свои туалеты, настроение за столом сразу поднялось. Говорили об одном и том же: о погоде и надеждах на весеннее наступление союзников.
Слева от Стефана сидел высокий, плечистый мужчина, который еще на кладбище привлек его внимание своей армейской шинелью. Это был родственник матери Стефана, Гжегож Недзиц, арендатор с Познанщины. Он все время молчал, а когда менял позу, застывал в ней надолго, точно аршин проглотил, и только улыбался бесхитростно, робко и как-то очень по-детски, словно извиняясь за неудобство, которое он доставляет своим присутствием; улыбка эта резко контрастировала с его загорелым, усатым лицом и одеждой — ее наверняка сшили дома из солдатского одеяла, так как сидело все на нем ужасно.
Чувствовалось, что подобные встречи за столом после похорон для присутствующих не в новинку, и Стефан вспомнил, что в последний раз он видел всю родню за трапезой на Рождество в Келецах. Это давало пищу для размышлений, ибо всеобщие примирения были редки, и родственников сплачивали исключительно похороны, но, хотя тогда никто из близких и не скончался, накал всеобщего горя был схож, поскольку происходило это вскоре после похорон отчизны, — следовательно, тогдашнее согласие вовсе и не было исключением из правила.
Стефан чувствовал себя неуютно в этом обществе, притом по многим причинам. Он вообще не любил больших, а особенно — торжественных сборищ. Далее: видя здесь ксендза, он знал заранее, что присутствие духовного лица неминуемо спровоцирует Ксаверия на богохульство и подковырки, а скандалов Стефан просто не выносил. Наконец, он чувствовал себя скверно потому, что его отец (которого он здесь представлял) не пользовался у родни доброй славой, — он единственный, насколько помнится, изобретатель среди помещиков и врачей, да еще такой, который, хоть ему и было уже под шестьдесят, ничего, собственно, не изобрел.
Настроения этого не смягчало соседство Гжегожа Недзица; он, казалось, родился молчуном, так как на попытки завязать разговор отвечал лишь более теплой, чем обычно, улыбкой и благодарным взглядом, который он на миг отрывал от тарелки, — но Стефану этого было мало, он жаждал погрузиться в беседу, тем более что заметил зловещие вспышки в глазах Ксаверия: тот явно к чему-то готовился. И вот, когда воцарилась относительная тишина, нарушаемая только стуком ложек по тарелкам, дядя промолвил:
— А ты, дорогой мой Стефанек, в костеле, наверное, чувствовал себя, как евнух в гареме, верно?
Реплика эта должна была рикошетом задеть ксендза, и дядя, судя по всему, планировал острое продолжение, но ему не удалось насладиться реакцией на свои слова, ибо родственники, как по команде, заговорили громко и торопливо, благо все знали, что Ксаверий подобные вещи говорить должен и единственное противоядие — немедленно глушить их общим громким разговором. Потом одна из прислуживавших баб вызвала дядю в кухню на поиски грудинки, которая куда-то запропастилась, и трапеза была прервана неожиданной паузой. Стефан скрашивал ее созерцанием коллекции родственных физиономий. Пальму первенства он бесспорно отдавал дяде Анзельму. Широкий в плечах, грузный, но не тучный, скорее массивный, лицо не красивое, но барственно породистое, и он знал этому цену! Пожалуй, наряду с медвежьей буркой, только это лицо и осталось у него, некогда владельца обширных угодий, утраченных лет двадцать назад. Якобы благодаря сельскохозяйственным экспериментам — но на этот счет Стефан не знал ничего определенного. Наверняка было известно лишь то, что Анзельм энергичен, задирист и вспыльчив одновременно; причем предаваться гневу он умел, как никто в семействе, — по пять, а то и десять лет, так что даже тетя Меланья забывала, из-за чего, собственно, разгорелся сыр-бор. В эти затяжные раздоры никто не отваживался вмешиваться, так как, если дядя обнаруживал, что родственник не знает причины его обид, гнев Анзельма автоматически распространялся и на незадачливого посредника. Именно так ожегся отец Стефана. Однако самые сильные враждебные чувства в душе дяди Анзельма, как и вообще в семье, стихали, когда умирал родственник; вызванная таким образом «treuga Dei»[2] продолжалась, в зависимости от обстоятельств, несколько дней или чуть больше недели. Тогда его врожденная доброта отражалась в каждом взгляде и слове — такая бесконечно щедрая и незлопамятная, что всякий раз Стефан бывал глубоко убежден, что это не временное перемирие, а окончательный отказ от гнева. Но потом нарушенный соприкосновением со смертью строй дядиных чувств восстанавливался, неумолимая суровость воцарялась на годы, и ничто не менялось — до следующих похорон.
Эта неподвластность дяди Анзельма и его чувств времени необычайно нравилась Стефану в детстве; позже, в университетские годы, он отчасти разгадал, в чем дело. Некогда гневливость дяди опиралась на его материальное могущество, на его владения, то есть, проще говоря, на будущее наследство, но благодаря стойкости характера Анзельм не лишился в семейном кругу способности гневаться и после потери состояния, и его побаивались по-прежнему, хотя гнев его уже не подкреплялся угрозой лишения наследства. Но, даже обнаружив этот ключ, Стефан так и не освободился от почтения, сдобренного страхом, — чувства, которое вызывал у него старший из братьев отца.
Грудинка неожиданно нашлась здесь же, в столовой, в черном буфете; когда эту огромную глыбу мяса извлекали из недр старинного буфета, ее черный цвет напомнил Стефану о черном цвете гроба, и на минуту ему стало не по себе. Из двери, ведшей в коридор, с топотом и шумом внесли вереницу жареных уток, банки с терпкой брусникой и блюда с дымящимся картофелем; обещанная ранее скромная трапеза явно превращалась в пиршество, тем более что дядя Ксаверий доставал из буфета одну за другой бутылки вина. Ощущение отчужденности от присутствующих неожиданно и резко обострилось; Стефана и до сих пор немного огорчал и тон разговоров, и изобретательность, с которой избегали упоминания о смерти, а ведь в конце концов именно она и была единственным поводом этой встречи, теперь же это огорчение многократно возросло, и Стефана уже оскорбляло все, в том числе и стенания по утраченной родине, сопровождавшиеся энергичной работой вилок и челюстей. А когда он подумал о дяде Лешеке, который лежал теперь заваленный глиной на пустынном кладбище, ему показалось, что только он еще и помнит о покойном; с неприязнью взирал он на раскрасневшиеся лица сотрапезников, и его возмущение выплеснулось за пределы семейного круга и вылилось в презрение ко всему миру. Но пока Стефан мог выразить его лишь воздержанием от еды, в чем настолько преуспел, что встал из-за стола почти голодный.
Но еще до этого в поведении доселе молчавшего Гжегожа Недзица, его соседа слева, произошла какая-то перемена. Уже некоторое время он озабоченно вытирал усы, робко посматривал по сторонам и на дверь, словно прикидывая на глазок расстояние; он явно к чему-то готовился. Вдруг наклонился к Стефану и шепотом объявил, что ему пора идти, чтобы успеть на познанский поезд.
— Ты что, хочешь ехать на ночь глядя? — как-то рассеянно удивился Стефан.
— Да, завтра надо быть на работе.
Гжегож стал объяснять, что там, на Познанщине, немцы поляков едва терпят и отпуск на день удалось получить с огромным трудом; всю ночь он добирался до Нечав, а теперь самое время в обратный путь… Оборвав нескладную речь, громадный усач глубоко вздохнул, резко поднялся, едва не потащив за собой скатерть вместе с посудой, и, кланяясь вслепую, на все стороны, стал протискиваться к дверям. Посыпались вопросы, протесты, но на пороге упрямый молчун еще раз отвесил всем низкий поклон и исчез в передней. За ним бросился дядя Ксаверий, вскоре хлопнула входная дверь. Стефан глянул в окно. На дворе уже стояла тьма. Он представил себе долговязую фигуру в куцей солдатской шинели на раскисшей дороге… Посмотрел на опустевший стул по левую руку, заметил, что бахрома низко свисающей накрахмаленной скатерти раскручена и старательно расправлена прилежными пальцами, и в груди защемило от теплой, сердечной жалости к этому, собственно говоря, незнакомому дальнему родичу, который уже вторую ночь кряду будет трястись в темном, холодном вагоне ради того только, чтобы пешком пройти сотню-другую шагов, провожая покойного.