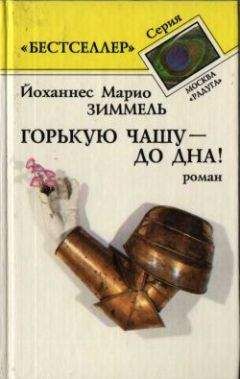Страх?
Я вообще еще не знал, что такое страх. И вот теперь узнал. Страх разрастался во мне, настоящий, подлинный страх: он парализовал мои руки и ноги, лишил зрения, слуха, он рос и рос и наполнял меня, распирая так, как газ распирает воздушные шары – они становятся все больше и больше, пока не достигают чудовищных размеров.
Кулак внутри меня разжался. Пальцы его обхватили мое сердце и сдавили. Я вскрикнул, отчаянно и пронзительно, но меня, конечно, никто не услышал: буря бушевала вокруг отеля и заглушала все звуки.
Сейчас. Вот сейчас. Сейчас.
Сейчас придет смерть.
Но смерть не пришла. Еще не пришла.
Ужасный кулак выпустил мое сердце, начал опускаться, я ясно чувствовал, как он опускался: третья пара ребер, вторая, первая, область желудка. Тут он остановился: коварный, подлый, уверенный в своей силе.
Я задрожал всем телом. И почувствовал, как лихорадочно колотится мое сердце. Его удары отдавались в спине, в кончиках пальцев на ногах, в языке.
Когда кулак вновь ударит? Когда страх вновь охватит меня? Они сидели во мне, затаившись до поры, эти чудовища. Но я еще был жив. Сколько мне осталось? Кто мог вынести такое ожидание смерти? Никто. Ни один человек на земле.
Врач.
Мне нужен врач.
Не успев даже подумать об этом, я услышал свой стон: – Нет…
Врач не должен видеть меня в этом состоянии, что бы со мной ни случилось. Не надо врача. Сейчас не надо. Зеленые глаза Шерли глядели на меня, гипнотизируя и умоляя.
Если врач увидит меня, все будет кончено – и наша любовь, и мой шанс вернуться на экран: последний шанс, который у меня еще оставался здесь, в Германии, в этом сотрясаемом бурей городе.
Нет, Шерли, нет.
Не надо врача.
Виски.
С этим словом, возникшим в мозгу, жизнь вновь затеплилась во мне. Нестерпимая жажда спиртного пронзила меня насквозь. Мне нужно выпить! Доброго шотландского виски, благословенного и несравненного, спасителя из любой беды. Я уже чуял его запах, ощущал его вкус, чувствовал, как оно вливается в горло, пряное и чудодейственное, как оно растворяет смертельный кулак, как тот исчезает.
Виски!
Ноги мои были словно ватные. Я с трудом поднялся и, шатаясь, проковылял по комнате мимо Джоан и Шерли, мимо наполеоновского маршала, мимо немецкого поэта назад в спальню, где все еще горела на тумбочке хрустальная лампа, бессмысленная и беспомощная.
Да, виски.
Это все из-за звонка Шерли. Испуг. Слишком много выпил за ночь. Потом эта буря. Да и рань такая. Все это было, но смерти не было. И врача мне не нужно. Я получу свою роль. И смогу ее сыграть. И сыграю.
Ключ!
Я уже распахнул створки платяного шкафа и схватил большую дорожную сумку из черной кожи, когда вспомнил о ключе. Сумка запиралась. Ключ лежал в кармане моего смокинга.
Я поплелся, все еще ощущая страшную слабость во всем теле, к креслу, на которое, вернувшись в номер ночью, швырнул свою одежду. Брюки упали на пол, смокинг тоже. Пришлось нагнуться. Кровь хлынула мне в голову, обдав жаром. Черт побери, где же ключ? Мои дрожащие пальцы запутались в подкладке карманов, вывернули их наружу, на пол посыпались монеты, счета, сигареты. Наконец я нашел ключ. И заковылял назад, к сумке.
Было время (к счастью, оно миновало), когда в Голливуде про меня говорили, что я спился. Все считали, что я пью, не просыхая, все двадцать лет – с тех пор как меня выставили за дверь и я перестал сниматься.
В последние два года эти разговоры прекратились. Теперь никто не мог про меня сказать, что я пью. Никто не видел меня пьяным, ни Джоан, ни Шерли. На самом же деле последние два года я пил больше, чем раньше, – но тайно, только тайно. Бутылки я так ловко прятал, что их никто не находил. Знаю, что Шерли и Джоан мне не верят, что они все эти годы искали виски, потому что просто не могли поверить, что я удержусь. Теперь уже больше не ищут. Теперь с гордостью думают, что я сам справился с этим отвратительным пороком. Так ловко я прятал бутылки, так осторожно пил в последнее время.
Отправляясь в путешествие, я брал с собой черную сумку. Одна фирма в Бостоне сделала ее для меня по моему собственноручному эскизу. В ней были потайные отделения. Туда можно было сунуть несколько бутылок виски и содовой воды. Отделения эти запирались. И бутылки сидели в них плотно, не скользили, не звякали, не разбивались. Был в сумке и большой термос, куда я клал кубики льда. Содовую и лед можно было получить где угодно, стоило лишь заказать маленькую рюмочку виски.
Таким образом я был всегда и всем обеспечен: и в спальном вагоне, и в самолете, в машине, моторной лодке или отеле. И мог тайком пить – причем больше прежнего. У меня была причина пить, очень весомая причина. Правда, у всех пьяниц есть причина выпить. Люди говорят так и смеются. Посмотрим, достанет ли у кого-нибудь духу смеяться, когда я дойду до конца своей исповеди.
Сумка эта была для меня как спасательный круг для не умеющего плавать или нитроглицерин для страдающего стенокардией. Она была частью меня самого и никогда меня не покидала. Правда, мне всегда приходилось запирать ее на ключ, особенно в отелях. Ведь персонал отелей имеет обыкновение рыться в вещах постояльцев. Но со мной этот номер не пройдет. Нет, Питер Джордан больше не пил.
Я расстегнул «молнию». И обнаружил в сумке две пустые бутылки из-под содовой, пустой термос и пустую бутылку из-под виски. Ночью я выпил все, что еще оставалось.
И тотчас же вновь ощутил внутри кулак.
Он был там же, под ложечкой, и дрожал, как перегруженный грузовик. Если я сейчас же не выпью виски, то… бррррр!!!
Мысленно я увидел кадр из американского мультика: супермен кулаком рушил целый город. Огромным кулаком. Бррррр!!!
Меня знобило, так что зубы громко выбивали дробь. И мне померещилось, что это буря все громче гремит за окном, грохочет прямо по голове. Никто бы не вынес всего этого – эту бурю, этот ужасный кулак и эту пустую бутылку из-под виски.
Но возле кровати стоял наполовину недопитый стакан виски.
Я отшвырнул сумку и бегом бросился к кровати – оказалось, что я еще могу бегать, – и залпом выпил остатки теплого, выдохшегося виски. Лишь несколько секунд удалось мне его удержать. Едва успел дойти до ванной.
И теперь, тяжело дыша, стоял перед зеркалом, полоскал рот «вадемекумом» и только собрался протереть лоб одеколоном, как выронил флакон. Тот упал в раковину и разбился. Я увидел себя в зеркале. Черные волосы были так мокры от пота, что прилипли к черепу. Лицо было темно-фиолетовое. Под глазами буровато-лиловые круги. Пока я с трудом ловил ртом воздух, лицо вдруг мертвенно побледнело, покрылось пятнами и стало пергаментно-желтым. Губы оставались черными. Пот катился градом и попадал мне в глаза, рот был широко разинут, язык покрыт голубоватым налетом. Самое страшное из кошмарных чудовищ, порожденных фантазией Маттиаса Грюневальда на Изенхаймском алтаре, не могло сравниться в уродстве с моим лицом в зеркале – лицом, некогда принадлежавшим Солнечному Мальчику Нового Света, самому знаменитому и популярному из детей-кинозвезд мира.
ПИТЕР ДЖОРДАН, НЕЗАБЫВАЕМАЯ ЮНАЯ КИНОЗВЕЗДА АМЕРИКИ.
Нет, теперь у меня больше не было ничего общего с сияющим болваном на обложке журнала, с тем напористым наглецом и его улыбкой, словно сошедшей с рекламы сырного печенья, с его слащавой красотой плейбоя. Невозможно себе даже представить: на этом лице, глядящем на меня из зеркала, всего три месяца назад журнал заработал сто миллионов долларов, бессчетные миллионы!
Кулак вновь начал подбираться к сердцу. Вот он у нижних ребер. Поднялся выше. Замер, выжидая.
Я бегом вернулся в гостиную. Отпер дверь и нажал на кнопку вызова официанта. Потом вновь задернул шторы в спальне. Официант не должен видеть моего лица. Лампу на тумбочке я тоже выключил. Достаточно и того света, что падал в комнату из гостиной и ванной. Лег в кровать и натянул одеяло до подбородка. А вот и он.
– Войдите!
Он вошел в гостиную, молодой, улыбающийся, вышколенный официант дорогого отеля. В дверях он остановился, даже не посмотрев в мою сторону, и, глядя прямо перед собой, сказал вежливо и бесстрастно:
– Доброе утро, мистер Джордан. Желаете позавтракать?
Третьи ребра. Вторые. Опять третьи. Я не мог произнести ни слова. Но надо было что-то сказать:
– Да… Завтрак…
– Полный завтрак?
– Полный… – Врача не надо. Не надо врача.
– Чай или кофе?
Вторые ребра. Третьи. Опять вторые.
– Ко… Кофе…
– Яйцо в мешочек?
– Да… – Никто не должен знать, что мне плохо. Иначе мне придется поставить крест на этом фильме.
– Большое спасибо, мистер Джордан.
Я так разволновался, что схватил золотой крестик, лежавший на тумбочке, и принялся вертеть и сжимать его в пальцах. Вплоть до моего вылета из Лос-Анджелеса этот крестик висел на тоненькой цепочке между теплыми твердыми грудками Шерли. При прощании на аэродроме (жена стояла отвернувшись и плакала) Шерли украдкой сунула мне свой амулет в руку, когда я уже шагнул за барьер. С той минуты я везде носил его с собой, с той минуты я то и дело вынимал его и сжимал в руке – на переговорах, во время производственных совещаний, на первых пробных съемках. Он придавал мне храбрости, этот золотой крестик, хотя его символика не имела для меня ровно никакого значения, хотя я не верил в Бога Шерли. Но я воспринимал крестик как часть ее самой, он так долго соприкасался с ее телом, и, ощущая рукой крестик, я словно бы касался ее бархатистой, упругой кожи, ее юного, крепкого тела, и это придавало мне храбрости даже теперь.