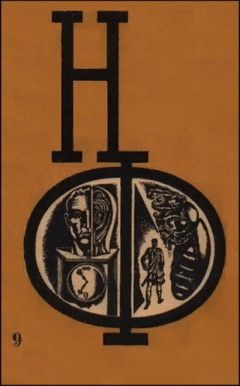— Садись и ешь, — сказал он все с той же странной суховатой интонацией, которая, видно, вообще была свойственна его голосу. o:p/
Воробей ел машинально, не замечая, что ест, во все глаза следя за Скворцом. Тот, доев, неспешно сдал свою миску и исчез за дверью кухни. С поваром о чем-то поговорить хочет, догадался мальчик — но о чем? Он глядел как завороженный, словно пытаясь взглядом проникнуть сквозь стену, и оттого, видно, упустил, с чего возник небольшой водоворотик рядом с ним — впрочем, возникнуть он мог из-за чего угодно, ведь в центре водоворотика оказался Цыганок, а его постоянно шпыняли, он вызывал в других ребятах глухую враждебность — и своей болезненностью, и тем, что вечно ковырял в носу, словно в своей ноздре ища защиту от жестокого внешнего мира, и — может быть — своей чернявостью, непохожей на чернявость других, самых темных и смуглых. Ашот тоже был черняв, но при том боек, свой парень, и щеки у него круглились, несмотря на более чем скудную жратву, и сама округлость его щек предполагала, неким смутным образом, его законную принадлежность к общей ребячьей стае. А Цыганок был и безропотен и зажат, и непонятно было, о чем он думает и чем живет, — словом, идеальный козел отпущения, какая неприятность ни приключись или какое дурное настроение ни накати на ребят. Умей Воробей четче формулировать свои мысли, он бы сказал, что травля Цыганка даже поощрялась старшими, педагогами, что, может быть, они и положили начало этой травле, дав всегда улавливаемым намеком понять, что Цыганок им неприятен и что его жалоб, попробуй он пожаловаться, они слушать не будут. Они как бы спустили свору, науськали ее своим пренебрежительно-холодным отношением к Цыганку, звучавшим как «ату!». В глубине души Воробью все это не нравилось, но он соблюдал железный закон — не вмешиваться, если только дело не касается тебя самого. В их детском доме все постоянно прощупывали друг друга на «слабо», и горе было тем, кто хоть раз давал слабинку, пусть и после долгих лет успешного сопротивления. Таких загрызали. Не буквально, конечно… Хотя случалось, что и буквально. Воробей, с трех лет в детском доме, успел несколько раз повидать, что такое смерть. Его самого, туманно припоминалось ему, сперва записали в нежильцы на этом свете, так он был слаб и хил и должен был, по идее, загнуться либо от дурного питания, либо от одной из эпидемий, забредавших к ним, либо еще от чего. Но он оказался удивительно упорным и цепким — и выжил, и утвердил себя, свое право на существование. o:p/
А теперь толстый Мишка сквозь стиснутые зубы говорил Цыганку: o:p/
— Ну все, Цыган, сучонок сраный, допрыгался ты. Считай, что мы тебя сделали. o:p/
Цыганок сидел как-то даже слишком спокойно и не побледнев — на смуглой коже бледность всегда проступает особенно заметно — и взгляд его был не испуганным, не виноватым, не обреченным, а каким-то отрешенным: словно он со стороны наблюдал за тем, что с ним происходит, и ему, стороннему наблюдателю, было ни тепло, ни холодно знать, что какого-то плюгавого мальчонку в очередной раз измордуют до полусмерти. o:p/
Воробей, может, и поинтересовался бы, что произошло, но тут открылась дверь кухни и вышел Скворец. Перехватив взгляд мальчика, он подошел к нему. o:p/
— Порядок, — сказал он. — Ни о чем не волнуйся. o:p/
— Скворцов, Виктор! — послышался голос. Это был Петр Иваныч, преподававший им сразу несколько предметов, — и математику, и историю партии, но по изначальной профессии бывший столяром и основным своим предметом считавший трудовое воспитание. o:p/
— Что, Петр Иваныч? — откликнулся Скворец. o:p/
— Столярная работенка есть. Пошли. o:p/
— Иду, — спокойно отозвался Скворец. — А если я этого мальца в подмогу возьму? Рукастый малец. — Скворец кивнул на Серегу Высика. o:p/
— Этот? — Петр Иваныч остановился перед Высиком и оглядел его с головы до пят, хотя и так отлично знал. — Что ж, парень ладный, хоть и с виду не того. Бери. Готовь себе трудовую смену. o:p/
— Пойдем, — сказал Скворец Воробью. — Все лучше, чем в поле ковыряться или в строю маршировать, — это он о военной подготовке, недавно у них введенной. И преподаватель новый появился, смурной — почти анекдотический — дядя, отставник из нижних чинов, обучавший ходить строем, заставлявший отрабатывать ружейные приемы с палками в руках и в виде учебных пособий использовавший плакаты Осоавиахима. Он не считал непедагогическим или зазорным угостить кого-нибудь из ребят постарше папироской, и это вызывало несколько ироническое отношение к нему, рассматривалось подсознательно как признак слабости или даже тайной боязни своих учеников, но, с другой стороны, от одного его присутствия веяло той армейской казенностью, которая у самых лихих и бесшабашных порождала зябкое неудобное чувство. Благодаря ему их детский дом превращался в частицу огромной армии, военизированный язык не только проникал во все закоулки быта, но и сознание отравлял своей настырностью. «Бойцы трудового фронта», «трудармия» — все эти термины как будто говорили о том, что и мирный труд является подготовкой к некоей грядущей войне. В сотнях ячеек, подобных их детскому дому, выковывалась будущая армия трудовой революции, до картонности победоносной, как было обещано, но от того не менее неведомой и страшной. Как страшен бывает наркотик, навевающий блаженные видения, — всегда занозой сидит опасение, что перегруженный наркотиком мозг даст сбой и вместо прекрасных картин начнет вырабатывать кошмары, от которых некуда будет деться. o:p/
Приблизительно так Сережа Высик воспринимал эту военизированность быта, нарастающую с каждым годом, хотя и не смог бы выразить своих ощущений в словах. o:p/
Во всяком случае, он был только рад убраться со Скворцом и Петром Иванычем подальше от лагеря — хотя бы на время. o:p/
По дороге никто не заговаривал. Воробей, семеня за двумя попутчиками, шедшими довольно быстро, бочком поглядывал то на Скворца, то на Петра Иваныча. Скворец вышагивал с отрешенным видом, словно заранее сосредоточившись на работе и выкинув из головы все беспокойные мысли, к ней не относящиеся. Руки его слегка болтались на ходу, и в нелепом своем, несколько безразмерном пиджаке темного непонятного цвета, похожем на взъерошенные перья, он действительно очень смахивал на скворца, с притворным безразличием высматривающего краем глаза аппетитного червяка. o:p/
Так они дошли до деревни и завернули во двор одного из крайних домов, с широкими воротами. Во дворе стояло несколько телег, над крыльцом висел, обмякнув в безветрии, красный флаг. Петр Иваныч поднялся на крыльцо, постучал и, не дожидаясь ответа, прошел вовнутрь. Ребята прошли вслед за ним. o:p/
Встретил их молодой парень в кожанке, с резкими чертами лица. Петр Иваныч поздоровался с ним, назвав Алексеем, и сказал: o:p/
— Подобрал я вам работника. Рукастый парень, дела не испортит. o:p/
— Вот и хорошо, — сказал Алексей. — Проходите, старшой объяснит, что делать. o:p/
Они прошли в довольно скудно обставленную комнату: стол, несколько стульев, запирающийся шкафчик, стоящий на большом табурете, — вид у шкафчика был вполне канцелярский и как-то сразу угадывалось, что в нем должны храниться всякие документы. Не будь шкафчик таким очевидно хлипким, ему бы вполне удалось выдать себя за сейф. o:p/
За столом сидел «старшой». Он проглядывал всякие бумажки, разложенные перед ним, — сводные таблицы, списки, графики и отчеты. Сережка почему-то прежде всего обратил внимание на то, с какой аккуратностью выполнены все эти документы — каким почти каллиграфическим почерком выведена каждая буковка, как ровна каждая линия. Было в этой аккуратности нечто странно не соотносящееся с ситуацией и оттого чуть ли не удушающее. Она говорила о внутреннем трепете, с которым здесь относились к каждой бумажке — благоговейно до сладострастия, до той чиновничьей бумажной похотливости, за которой всегда брезжит бездушие… Но тут сидевший за столом поднял взгляд — и мальчик уже не мог оторвать глаз от этого лица. Оно притягивало тем пустым выражением, которое иногда бывает вполне естественным для животных, но страшит ненормальностью, когда встречаешь его в человеке. Животное отсутствие жизни — вот как это можно было бы определить. Пустота, не способная жить полноценно сама по себе, пустота, паразитирующая на окружающем, подкармливающаяся кровью, насилием и разрушением, которые она сеет вокруг. Сеет, и собирает урожай, и пожирает, чавкая — а иначе умрет с голоду. o:p/
Серое одутловатое лицо — оно бы выглядело приятно округлым, если бы не общая дряблость, не эти складки щек, не этот сальный поблескивающий лоб. Глаза без всякого выражения, бесцветные глаза, похожие на два кусочка чуть подтаявшего льда. Глаза, зрачки которых передвигались со странной медленностью и могли подолгу застывать на одной точке. Мальчик увидел коричневый пиджак, рубашку под пиджаком, а у горла — красный галстук. Мальчик не сразу сообразил, что же так смущает его в этом галстуке, и лишь потом, вглядевшись, понял — галстук был выкрашен красной масляной краской и оттого отсвечивал тусклым ненатуральным отливом, и мелкие трещинки шли по нему. Он поглядел на Скворца и Петра Иваныча. Но если их и смутил этот галстук или это лицо, то виду они не подали. o:p/