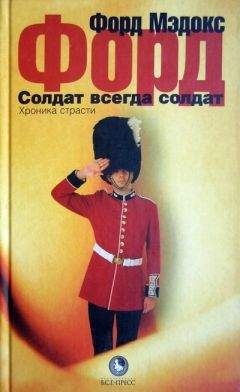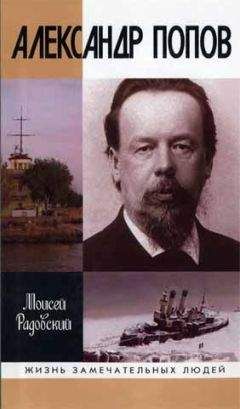После «Лагеря горемык» Пол обзавелся массой необычайных симптомов: жаловался, что не может нормально зевать и чихать; говорил о загадочном «колотье» в головке пениса; сетовал на неправильность «линии» своих зубов. А время от времени вдруг принимался лаять, а после ухмылялся, как Чеширский кот, и, бывало, несколько дней подряд испускал негромкое, но различимое ииик-ииик – стиснув губы и пытаясь втянуть воздух, и лицо у него было при этом испуганное. Мать попробовала поговорить с ним об этом, еще раз проконсультировалась у психотерапевта (тот порекомендовал провести побольше сеансов) и даже попросила Чарли «вмешаться». Пол сначала уверял, что не понимает, о чем речь, ему все это кажется нормальным, а после заявил, что издаваемые им звуки удовлетворяют его вполне законную внутреннюю потребность и никому досаждать не могут, а если они кому не нравятся, так это их проблемы, не его.
В эти напряженные месяцы я пытался, в сущности говоря, сам исполнять роль омбудсмена, каждое утро беседуя с Полом по телефону (такой разговор состоится, надеюсь, и сегодня), отправляясь с ним, а время от времени и с его сестрой Клариссой, рыбачить в дорогущем прибежище удильщиков под названием «Клуб краснокожего», куда я именно ради таких поездок и вступил. Один раз мы с ним съездили в Атлантик-Сити на выступление Мела Торме[6] в казино «Троп Уорлд» и дважды в приморский домик Салли – лоботрясничали там, плавали в океане, когда шприцы и человеческие фекалии не составляли нам слишком большую конкуренцию, гуляли по берегу и беседовали после наступления темноты о делах нашего мира и – опосредованно – самого Пола.
В этих разговорах Пол поведал мне многое, и самым значительным были его сложные, но безуспешные попытки кое-что забыть. Он помнит, к примеру, собаку, которая была у нас годы назад, когда мы жили единой семьей в Хаддаме, – милого, ушастого немолодого бассета по кличке Мистер Тоби. Мы все на него нарадоваться не могли, обожали его, как дети – конфеты, но одним летним вечером, когда мы устроили во дворе пикник, его прямо перед нашим домом задавила машина. На самом деле, несчастный Мистер Тоби сумел вскарабкаться на тротуар Хоувинг-роуд, доковылять в предсмертном напряжении сил до Пола и заскочить ему на руки, а уж там бедняга задрожал, коротко взвыл, захрипел и умер. В последние недели Пол рассказал мне, что даже тогда (всего-то в шесть лет) он боялся, что этот случай застрянет в его памяти, глядишь, до конца жизни – и погубит ее. По его словам, он неделями и неделями лежал в своей комнате без сна, думая о Мистере Тоби и тревожась на его счет. Со временем воспоминание затушевалось, но после истории с резинками из «Финаста» вернулось, и теперь он «помногу» (может быть, постоянно) думает о Мистере Тоби, о том, что Мистер Тоби мог бы жить с нами и сейчас, – и, если уж на то пошло, Ральф, бедный брат Пола, умерший от синдрома Рея, тоже мог бы жить (конечно, мог бы), и все мы так и были бы по-прежнему «мы». Иногда, сказал Пол, эти мысли даже не кажутся ему неприятными, потому как многое, что он помнит из прежнего времени, после которого все стало плохо, было «веселым». И в этом смысле он страдает редкой разновидностью ностальгии.
Он также сказал, что в последнее время пытается вообразить процесс мышления и его собственный образован, похоже, «концентрическими кругами», красочными, как кольца хулахупа. Один из них – память, и Пол старается «плотно подогнать их друг к другу, уложив один на другой», добиться согласованности, которая, считает он, приличествует этим кольцам, – исключение составляет лишь точный миг засыпания, позволяющий все забыть и испытать счастье. А еще Пол рассказал о том, что именует «обдумыванием мыслей», разумея под этим постоянные усилия отслеживать все, что он думает, стараясь таким образом добиться «понимания» самого себя, научиться управлять собой и тем самым сделать жизнь лучше (хотя, поступая так, он, конечно, рискует сорваться с нарезки). В определенном смысле его «проблема» проста: он слишком рано вынужден был заняться постижением жизни, попытками понять, как ее прожить, – задолго до того, как успел увидеть достаточное число неразрешимых кризисов, проплывавших мимо него, точно разбитые бурей корабли, увидеть и понять, что если ему удастся вернуть в строй один корабль из шести, то получится чертовски хорошее среднее, а остальные пусть себе канают дальше. Мысль в Период Бытования незаменимая, очень помогающая выживать.
Я знаю, это рецепт не из лучших. На самом деле из худших: формула жизни, придавленной иронией и разочарованиями, – один человечек, наружный, пытается подружиться с другим, внутренним, или взять его под контроль, но безуспешно. (Из Пола может получиться в итоге большой ученый или переводчик ООН.) К тому же он левша, а это чревато большей, нежели обычно, опасностью расстаться с жизнью раньше положенного срока, поскольку вероятность всякого рода дурных исходов для него повышена: брошенный кем-то камень может выбить ему глаз, или он сам ошпарится кипящим в сковороде жиром, или его покусают бродячие собаки, или собьет машина, ведомая таким же левшой, или он решит переселиться в третий мир, плюнуть на все и сойти с дистанции, развестись, наконец, как его папа и мама.
Можно и не говорить о том, что разделяющие нас с ним мили выполнения моей отцовской задачи не облегчают. Я должен, играя роль обаятельного посредника между двумя его чуждыми одна другой личностями, детской и нынешней, уговорить их соединиться, вступить в более тесные, дружеские, открытые внешнему миру отношения – а это примерно то же, что уговаривать два отдельных, озлобленных народа жить под одним правительством, – и внушить Полу, что терпимость к себе должна стать основным мотивом его существования. Разумеется, то же самое обязан сделать любой отец, какая бы жизнь ему ни выпала, и я пытался выполнить эту задачу вопреки всем помехам, воздвигнутым на моем пути разводом, временем и недостаточным знанием сил противника. Да только мне теперь представляется ясным (вот и Энн так считает), что особого успеха я не добился.
Впрочем, ранним и ярким завтрашним утром я прихвачу его по пути в Коннектикут, и мы отправимся с ветерком в путешествие отца и сына, которое обоим пойдет на пользу, и посетим столько спортивных «Залов славы», сколько человек способен посетить за сорок восемь часов (то есть всего-навсего два), заглянем в легендарный Куперстаун, где остановимся в достославной «Харчевне Зверобоя», половим рыбу на живописном озере Отсего, разожжем безопасный этический костер, наедимся как нечестивцы, а попутно я сотворю (надеюсь) чудо, какое только отец сотворить и способен. А именно: если твой сын вдруг начинает со страшной скоростью катиться под уклон, тебе надлежит, призвав на подмогу твою любовь и зрелость, бросить ему спасательный конец и вернуть его назад. (И каким-то образом успеть проделать это до того, как ты доставишь его к матери в Нью-Йорк, а сам вернешься в Хаддам, где я, хорошо этот город зная, предпочитаю 4 июля отсутствовать.)
И все же, все же. Неведенье способно испортить даже хорошую идею. А ведь мне остается только гадать, могу ли я достучаться до моего выжившего сына или он уже спятил на манер Мартовского зайца – или быстро подвигается в эту страшную сторону? Порождены ли его проблемы неисправностью нейромедиаторов, устранить которую может лишь прием упреждающих химикатов? (Таким было первоначальное мнение нью-хейвенского терапевта доктора Стоплера.) Обратится ли он понемногу в хитрого затворника с плохой кожей, гнилыми зубами, обгрызенными ногтями и желтыми глазами, в юнца, который раньше времени бросает школу, подается в бродяги, связывается с дурной компанией, пробует наркотики и, наконец, приходит к убеждению, что единственный его надежный друг – это беда, а там, в одну солнечную субботу, и этот друг предает его каким-то немыслимым, невыносимым образом, и он заходит в пригородный оружейный магазин, а после устраивает ад кромешный в каком-нибудь общественном месте? (Этого я, честно говоря, не ожидаю, поскольку в нем пока не обнаружилось ни одной детской самоубийственной мании из их «большой тройки»: тяга к огню, потребность мучить беззащитных животных и ночное недержание; да и потому еще, что мальчик он на самом деле мягкосердечный и мирный – и всегда был таким.) Или же он, опишем и самый лучший сценарий – как бывает с каждым из нас, и как надеется его мать, – просто пройдет через нынешнюю фазу и спустя восемь недель сдаст экзамены, которые позволят ему одиноко укрыться на два года в колледже Дип-Ривера?
Это одному только Богу известно, ведь так? Известно ли?
Для меня, проводящего большую часть времени без сына, самое худшее состоит в моей уверенности: в нынешнем его возрасте человек не способен даже вообразить, что с ним когда-нибудь может случиться нечто дурное. Впрочем, онто как раз и способен. Временами, гуляя с Полом по берегу океана или стоя по колено в воде неподалеку от «Клуба краснокожего», когда солнце гаснет, а вода делается черной и бездонной, я заглядывал в его милое, бледное, изменчивое мальчишеское лицо и понимал, что он всматривается, прищурясь, в не внушающее ему доверия будущее, всматривается с командной высоты, которая, это он уже понял, ему не по сердцу, но которую он удерживает, потому что считает себя обязанным, а еще потому, что, сознавая в глубине души наше с ним несходство, Пол жаждет добиться сходства, ибо оно придало бы ему уверенности в себе.