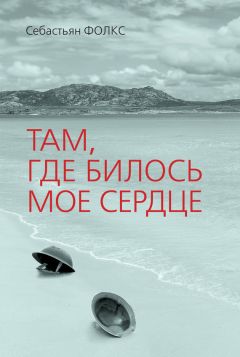— Роберт, давай скорее сюда. Это моя подруга Мэнди. Она медсестра.
Видимо, предполагалось, что врачу проще найти общий язык с медсестрой. И действительно, напрягаться мне не пришлось, поскольку подруга тараторила не умолкая. Было очевидно, что выстраивать логические цепочки рассуждений девушке сложно. Я хотел было помочь коллеге собраться с мыслями и предпринял несколько попыток, но получил резкий отпор. И понял: ей все равно, о чем тараторить, она просто боится молчания.
Вскоре музыка стала еще громче, разговаривать теперь можно было только в узенькой кухне. Уйти раньше десяти — неприлично. Взглянув на часы, я приготовился еще пятнадцать минут подпирать задом стиральную машину. Собеседников было двое, парень в красной клетчатой рубашке, озеленитель (деревья обрезал), и его брат, агент турбюро.
Ребята уже поднабрались. Со мной держались по-приятельски, но проскальзывало недоумение. Не ожидали, что я и впрямь притащусь. Меня кольнула зависть к их мужской жизни: наверняка неутомимо домогаются девчонок с молодыми грудями и белозубым оскалом.
— Прошу клиента немного подождать, а сам связываюсь с авиакомпанией и — чик-чик — распечатываю копию расписания, — сообщил турагент, подливая себе красного. — Вот и весь фокус. Это вам не мозги оперировать.
— И даже не деревья, — добавил я.
Юмора ребята не поняли. Я повернулся к бутылке, чтобы налить еще в пластиковый стаканчик, и оказался лицом к лицу с медсестрой.
— А можно кое-что у вас спросить? Вы даете частные консультации?
Я присмотрелся к ней — зрачки расширены, взгляд стеклянный.
— Консультаций не даю.
Она уперлась мне в грудь ладонью. Я испугался, что ее сейчас вырвет. Нет, просто оперлась.
— Одному человеку требуется помощь. У него жуткая депрессия и вообще…
— Я же сказал. Терапевт я. С депрессией не ко мне.
— Не к вам? Но Мисти говорила…
— Мало ли что она говорила. С Мисти мы знакомы всего пару часов.
Протиснувшись мимо собеседников, я вышел из кухни, поблагодарил Шиз за чудесный вечер и выскочил на лестничную площадку. Дома включил телевизор, налил себе хорошего выдержанного виски и рухнул в любимое кресло. Напряжение от шумного новоселья сразу исчезло; я зажег сигарету и откинул голову. Самое время было достать кассету с фильмом; примерно на середине приму снотворное. А когда кино закончится, втисну в уши затычки, чтобы заглушить последние доносящиеся сверху всплески нудного техно, нырну под одеяло — и в путь по морю снов до самого утра.
И двадцати минут не прошло, как в дверь робко постучали.
— К вам можно?
— Откуда вы узнали, где я живу?
Это была медсестра, Мэнди. Узнала она от Мисти.
— Вам плохо? Может, воды?
Она села на диван и разрыдалась.
— Прости, Роберт. Сама не понимаю, что делаю. Просто ты старше… и ты врач. А мне так плохо…
Я сел рядом.
— И сколько же ты выпила?
— Не знаю. До вечеринки выпила немного вина.
— Хочешь, я вызову такси? Ты где живешь?
— В Бэлхеме. Можно я еще немного побуду? А то… а то… очень все кружится.
— Сейчас сделаем тебе чаю.
Главное, побыстрее выпроводить ее из квартиры, соображал я, пока возился с чайником и чашкой. Когда я вошел с подносом в гостиную, девица успела снять туфли и разлечься на диване. Мордашку закрывали свисшие волосы, на пятках сквозь нейлон колготок проступили влажные пятна.
— Вот тебе чай. Пей, а я пока вызову такси.
— Я сама поймаю на улице.
— Не уверен.
— Запросто. Еще и одиннадцати нет.
Раз так все обернулось, подумал я, надо отправить барышню назад к друзьям: пусть сами с ней возятся. Мэнди рывком поднялась, снова приняв сидячее положение. Потянулась за чашкой, подол юбки приподнялся над плотными ляжками.
Я отошел к окну.
— Ты живешь одна?
— Мы втроем живем. Но сейчас девочек нет дома. А ты?
— А я один.
— У тебя нет жены?
— Нет.
— А подружка?
— Послушай, Мэнди, давай-ка я усажу тебя в такси, и ты спокойно покатишь в свой Клэпхем. Договорились?
— В Бэлхем. А куда нам торопиться? Суббота, завтра воскресенье. И мне так нужно… с кем-то поговорить.
— О чем именно?
Последовал рассказ про одного близкого друга, сопровождаемый периодическими взрывами негодования; от меня требовалось сочувствие. Но изложение было начисто лишено логических связок, а восстанавливать их оказалось мне не по силам.
— … ну ладно, думаю, а я-то при чем? Короче, может, надо было сразу сказать, что мне это не?.. Точно, надо было… Ой, что это?
— Кто-то пришел. Кто-то еще.
Я вышел в холл и нажал на кнопку домофона.
Кем-то еще оказалась Аннализа, и на лице ее бушевала такая буря чувств, что мне стало не по себе.
— Слава богу, ты дома! — Она влетела в холл и, даже не остановившись для приветственного поцелуя, устремилась в гостиную.
И тут же затормозила — резко, с вытаращенными глазами. Я в замешательстве представил дам друг другу.
Далее разыгралась сцена, достойная мультика или мелодрамы, виденной мной в нью-йоркском самолете. Воздух сотрясали обличающие вопли (с обеих сторон). Аннализа, разумеется, вообразила, что я жажду слиться с медсестрой в половом экстазе, для чего и заманил ее к себе.
Грань между ненавистью и любовью чрезвычайно тонка. Потребность защитить свое эго от дальнейших унижений понуждает человека орать на того, кого он любит.
В конечном итоге ушли обе. Я устало рухнул на диван, почувствовав, до какой степени я одинок. Все мои знакомства и дружбы, вместившиеся в прожитые шестьдесят с лишним лет, не могли затушевать этой истины: я катастрофически одинок.
Проснулся я рано, вырвавшись из страшного сна. Пока брился и чистил зубы, пытался вырваться из пут кошмара, сплетенного подсознанием, и переключиться на реальную жизнь. Обыденное для меня начало дня.
Накормив Макса и почитав газету, я ухитрился кое-как собраться с мыслями, только мысли эти были не об Аннализе. Нет, не о ней, а о письме Александра Перейры. Перейра утверждал, что был знаком с моим отцом — дольше, чем я. Он погиб, когда мне было два года, незадолго до Перемирия[4]. Есть фотография, где он держит меня на руках. Но самого отца я не помню.
Моим защитником и кормильцем была мама. Маленькая, худенькая, вечно всего боявшаяся. Работала в администрации многопрофильного сельхозпредприятия, надрывалась как каторжная. Но получая в конце недели деньги, всегда ждала, что ей скажут: «Вы уволены». Ежемесячные счета от разносчика молока и за электричество были для мамы очевидными уликами ее травли. К себе на чай мы никого не приглашали, поскольку маму «не совсем устраивало» наше окружение. Если приглашали нас, мама настораживалась: с чего это вдруг такое радушие? Поэтому мы редко куда-нибудь выбирались. Ее родители вроде бы когда-то держали пансион на южном побережье, но дом этот сгорел. Подозреваю, что на самом деле дед с бабкой развелись или просто разошлись, но мама решила замаскировать скандальный казус историей про пожар. С моим отцом она познакомилась в доме тетки, жившей неподалеку от Лондона. До войны папа был портным, но мама уточняла: не близоруким одиночкой с иголкой в руках, гнущим спину в тесной каморке. Когда папа в свои тридцать отправился в 1915 году добровольцем на фронт, он уже владел на центральной улице собственным ателье с шестью работниками. У мамы сохранилось фото: они с отцом в день помолвки. Там она улыбается, хотя в жизни я никогда не видел ее улыбающейся; впрочем, даже на этом снимке вид у мамы немного испуганный.
У отца был старший брат, дядя Бобби, он жил в специализированном заведении. После смерти отца, в 1918 году, мама каждое Рождество ездила его навещать и однажды — мне тогда было почти семь — взяла меня с собой. Мы долго ехали на автобусе до самой окраины главного города графства. Наконец автобус, прокашлявшись, потащил нас на холм, и мы высадились у каких-то обветшалых лавок. В ста ярдах от этих домишек высились мощные железные ворота, в деревянной будке при них сидел привратник, перед которым курилась жаровня. Привратник кивнул нам: проходите.
— А что с дядей? — спросил я. — Почему он здесь живет?
— Он немножко чудной, — сказала мама.
Мы вышли на подъездную дорожку посреди просторного парка. В отдалении виднелись какие-то фермерские (так мне показалось) постройки и двор с высокой кирпичной трубой; из нее валил дым. Труба напоминала фабричную, только гораздо меньше размером. Длиннющее главное здание тянулось почти во всю улицу. Мы вошли в центральный вход, подошли к стеклянному кубу с окошком, тетенька спросила наши имена. Холл — с каменным полом, под высоким стеклянным куполом — был залит солнечным светом и сиял чистотой, и я порадовался за дядю.
Мы очень долго куда-то шли. Слева равномерно мелькали окна, выходившие в парк; справа — накрепко задраенные двери с цифрами, из-за которых доносились непонятные звуки. Наконец мы оказались в другом просторном зале — уменьшенной копии главного холла внизу, откуда попали в самое дальнее помещение, где нас ждал дядя Бобби.