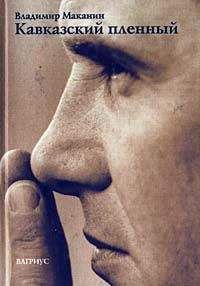Вовка заворачивал к столовой.
— ...на обмен взяли. Подполковник разрешение дал, — спешил сказать Вовка, опережая расспросы встретившихся солдат из взвода Орликова.
Солдаты, сытые после еды, выкрикивали ему: мол, передавай привет. Спрашивали: кто в плену? на кого меняем?!
— На обмен, — повторял Вовка-стрелок.
Ваня Бравченко засмеялся:
— Валюта!
Сержант Ходжаев крикнул:
— Молодцы, хорошо поймали! Таких любят!.. Их начальник, — он мотнул головой в сторону гор, — таких очень любит.
Чтобы пояснить, Ходжаев еще и засмеялся, показав крепкие белые солдатские зубы.
— Два, три, пять человек на одного выменяешь! — крикнул он. — Таких, как девушку, любят! — И, поравнявшись, он подмигнул Рубахину.
Рубахин хмыкнул. Он вдруг догадался, что его беспокоило в плененном боевике: юноша был очень красив.
Пленный не слишком хорошо говорил по-русски, но, конечно, все понимал. Злобно, с гортанно взвизгивающими звуками он выкрикнул Ходжаеву что-то в ответ. Скулы и лицо вспыхнули, отчего еще больше стало видно, что он красив — длинные, до плеч, темные волосы почти сходились в овал. Складка губ. Тонкий, в нитку, нос. Карие глаза заставляли особенно задержаться на них — большие, вразлет и чуть враскос.
Вовка быстро сговорился с поваром. Перед дорогой надо было хорошо поесть. За длинным дощатым столом шумно и душно; жарко. Сели с краю — и тут же из вещмешка Вовка извлек ополовиненную бутылку портвейна; скрытным движением он сунул ее под столом Рубахину, чтобы тот, зажав бутылку, как водится, меж колен, незаметно для других ее допил. «Ровняк половину тебе оставил. Цени, Рубаха, мою доброту!..»
Поставил тарелку и перед пленным: — Нэ хачу, — резко ответил тот. Отвернулся, качнув темными локонами.
Вовка придвинул к нему ближе:
— Хотя бы мясо порубай. Дорога долгая.
Пленный молчал. Вовка заволновался, что тот, пожалуй, двинет сейчас локтем тарелку и столь трудно выпрошенная у повара лишняя каша с мясом будет на полу.
Он быстро разбросал третью порцию по тарелкам себе и Рубахину. Поели. Пора было идти.
У ручья они пили, зачерпывая по очереди воду пластмассовым стаканчиком. Пленного, видно, мучила жажда; стремительно шагнув, он, словно рухнул, упал на колени, гремя галькой. Он не дождался, пока развяжут руки или напоят из стаканчика, — стоя на коленях и склонившись к быстрой воде лицом, долго пил. Связанные сзади посиневшие руки при этом задирались кверху; казалось, он молится каким-то необычным способом.
Потом сидел на песке. Лицо мокро. Прижимая щеку к плечу, он пытался сбросить без помощи рук нависшие там и тут на лице капли воды. Рубахин подошел:
— Мы бы дали тебе напиться. И руки бы развязали... Куда спешишь?
Не ответил. Рубахин посмотрел на него и ладонью отер ему воду на подбородке. Кожа была такой нежной, что рука Рубахина дрогнула. Не ожидал. И ведь точно! Как у девушки, подумал он.
Глаза их встретились, и Рубахин тут же отвел взгляд, смутившись вдруг скользнувших и не слишком хороших мыслей.
На миг насторожил Рубахина ветер, шумнувший в кустах. Как бы не шаги?.. Смущение отступило. (Но оно только припряталось. Не ушло совсем.) Рубахин был простой солдат — он не был защищен от человеческой красоты как таковой. И вот уже вновь словно бы исподволь напрашивалось новое и незнакомое ему чувство. И, конечно, он отлично помнил, как крикнул тогда и как подмигнул сержант Ходжаев. Сейчас предстояло быть и вовсе лицом к лицу. Пленный не мог самостоятельно перейти ручей. Крупная галька и напористое течение, а он был бос, и нога распухла у щиколотки так сильно, что уже в самом начале пути ему пришлось сбросить свои красивые кроссовки (на время они лежали в вещмешке Рубахина). Если при переходе ручья раз-другой упадет, он может стать никуда не годным. Ручей потащит волоком. Выбора нет. И понятно, что Рубахин, кто же еще, должен был нести его через воду: не он ли, когда брал в плен, броском своего автомата повредил ему ногу?
Чувство сострадания помогло Рубахину; сострадание пришло ему в помощь очень кстати и откуда-то свыше, как с неба (но оттуда же нахлынуло вновь смущение заодно с новым пониманием опасной этой красоты). Рубахин растерялся лишь на миг. Он подхватил юношу на руки, нес через ручей. Тот дернулся, но руки Рубахина были мощны и сильны.
— Ну-ну. Не брыкайся, — сказал он, и это были примерно те же грубоватые слова, какие сказал бы он в подобной ситуации женщине.
Он нес; слышал дыхание юноши. Тот нарочито отвернул лицо, и все же его руки (развязанные на время перехода), обхватившие Рубахина, были цепки — он ведь не хотел упасть в воду, на камни. Как и всякий, кто несет на руках человека, Рубахин ничего не видел под ногами и ступал осторожно. Скосив глаза, он только и видел бегущую вдали воду ручья и, на фоне прыгающей воды, профиль юноши, нежный, чистый, с неожиданно припухлой нижней губой, капризно выпятившейся, как у молоденькой женщины.
Здесь же у ручья сделали первый привал. Для безопасности сошли с тропы вниз по течению. Сидели в кустах. Рубахин держал на коленях автомат со снятым предохранителем. Есть пока не хотелось, но пили воду несколько раз. Вовка, лежа на боку, крутил приемничек, тот еле слышно свиристел, булькал, мяукал, взрывался незнакомой речью. Вовка, как и всегда, полагался на опыт Рубахина, за километр слышавшего камень под чужой ногой.
— Рубаха, я сплю. Слышь. Я сплю, — честно предупреждал он, проваливаясь в мгновенной солдатской дреме.
Когда зоркий старлей изгнал его из числа тех, кто пошел на разоружение, Вовка от нечего делать вернулся в домишко, где жила молодая женщина. (Домишко рядом с домом подполковника. Но Вовка был осторожен.) Она, понятно, обругала, попеняла солдату, так скоро бросившему ее у магазина. Но через минуту они снова оказались лицом к лицу, а еще через минуту в постели. Так что теперь Вовка был приятно изнурен. Дорогу он осиливал, но на привалах его тотчас кидало в сон.
Рубахину было проще заговорить на быстром ходу.
— ...если по-настоящему, какие мы враги — мы свои люди. Ведь были же друзья! Разве нет? — горячился и даже как бы настаивал Рубахин, пряча в привычные (в советские) слова смущавшее его чувство. А ноги знай шагали.
Вовка-стрелок фыркнул:
— Да здравствует нерушимая дружба народов...
Рубахин расслышал, конечно, насмешку. Но сказал сдержанно:
— Вов. Я ведь не с тобой говорю.
Вовка на всякий случай смолк. Но и юноша молчал.
— Я такой же человек, как ты. А ты такой же, как я. Зачем нам воевать? — продолжал говорить всем известные слова Рубахин, но мимо цели; получалось, что стершиеся слова говорил он самому себе да кустам вокруг. Да еще тропинке, что после ручья рванулась прямиком в горы. Рубахину хотелось, чтобы юноша хоть как-то ему возразил. Хотелось услышать голос. Пусть что-то скажет. (Рубахин все больше чувствовал себя неспокойным.)
Вовка-стрелок (на ходу) шевельнул пальцем, и приемничек в его солдатском мешке ожил, зачирикал. Вовка еще шевельнул — нашел маршевую песню. А Рубахин все говорил. Наконец устал и смолк.
Идти со связанными руками (и с плохой ногой) непросто, если подъем крут. Пленный боевик оступался; шел с трудом. На одном из подъемов вдруг упал. Кое-как встал, не жаловался; но Рубахин заметил его слезы.
Рубахин несколько скоропалительно сказал:
— Если не убежишь, я развяжу тебе руки. Дай слово.
Вовка-стрелок услышал (сквозь музыку приемника) и вскрикнул:
— Рубаха! да ты спятил!..
Вовка шел впереди. Он ругнулся: мол, глупость какая. А приемник меж тем звучал громко.
— Вов. Выруби... Мне слышать надо.
— Счас.
Музыка смолкла.
Рубахин развязал пленному руки — куда он уйдет с такой ногой от него, от Рубахина.
Шли довольно быстро. Впереди пленный. Рядом полусонный Вовка. А чуть сзади молчаливый, весь на инстинктах Рубахин.
Освободить кому-то хотя бы только кисти рук и хотя бы только на время пути — приятно. Со сладким привкусом сглотнулась слюна в гортани Рубахина. Редкая минута. Но привкус привкусом, а взгляд его не слабел. Тропа набрала крутизну. Стороной они прошли холмик, где был закопан пьянчуга Боярков. Замечательное залитое вечерним солнцем место.
На ночном привале Рубахин отдал ему свои шерстяные носки. Сам остался в сапогах на босу ногу. Всем спать! (И совсем малый костер!..) Рубахин отобрал у Вовки транзистор (ночью ни звука). Автомат, как всегда, на коленях. Он сидел плечом к пленному, а спиной к дереву в своей излюбленной с давних времен позе охотника (чуткой, но позволяющей немного впасть в дрему). Ночь. Он как бы спал. И в параллель сну слышал сидящего рядом пленника — слышал и чувствовал настолько, что среагировал бы в тот же миг, вздумай тот шевельнуться хоть чуточку нестандартно. Но тот и не думал о побеге. Он тосковал. (Рубахин вникал в чужую душу.) Вот оба они впали в дрему (доверяя), а вот Рубахин уже почувствовал, как юношей вновь овладела тоска. Днем пленный старался держаться гордецом, но сейчас его явно донимала душевная боль. Чего, собственно, он печалился? Рубахин еще днем внятно намекнул ему, что ведут его не в воинскую тюрьму и не для каких-то иных темных целей, а именно, чтобы отдать его своим — взамен на право проехать. Всего-то и дел — передать своим. Сидя рядом с Рубахиным, он может не волноваться. Пусть он не знает про машины и блокированную там дорогу, но ведь он знает (чувствует), что ему ничто не грозит. Более того. Он чувствует, конечно, что он симпатичен ему, Рубахину... Рубахин вдруг вновь смутился. Рубахин скосил глаза. Тот тосковал. В уже подступившей тьме лицо пленного было по-прежнему красиво и так печально. «Ну-ну!» — дружелюбно сказал Рубахин, стараясь приободрить.