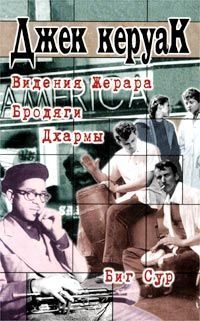Когда тем довольно прохладным поздним красным днем я просто открыл его маленькую дверь и заглянул внутрь, то увидел самую мирную сцену в своей жизки: он сидел по-турецки в дальнем углу хижины на пестрой подушке, брошенной на соломенную циновку, с очками на носу, делавшими его старым, ученым и мудрым, с книгой на коленях, а рядом — маленький жестяной чайник и дымящаяся фаянсовая чашка. Он весьма мирно оторвался от книги, посмотрел, кто пришел, и произнес:
— Заходи, Рэй, — и снова склонился над рукописью.
— Что делаешь?
— Перевожу великое стихотворение Хань Шана, которое называется «Холодная Гора» и написано тысячу лет назад, причем некоторые строки начертаны на утесах в сотнях миль от каких бы то ни было людей.
— Круто.
— Когда заходишь в этот дом, хоть ты и снимай ботинки, но, смотри, осторожней, чтобы не испортить циновки. — Поэтому я снял свои мягкие синие парусиновые тапки, послушно поставил их у дверей, он кинул мне подушку, и я сел, скрестив ноги, у дощатой стены, а он предложил мне горячего чаю. — Ты когда-нибудь читал Книгу Чая? — спросил он.
— Нет, а что это?
— Это ученый трактат о том, как готовить чай, пользуясь всем двухтысячелетним знанием о заваривании чая. Некоторые описания воздействия первого глотка, второго и третьего — на самом деле дикие и экстазные.
— Те парни торчали с ничего, а?
— Пей чай и увидишь: это хороший зеленый чай. — Чай действительно был хорош, и я сразу же почувствовал себя спокойно и тепло. — Хочешь, почитаю тебе из этого стихотворения Хань Шана? Давай, вообще расскажу о нем?
— Давай.
— Хань Шан, видишь ли, был китайским ученым, которому надоел город и мир тоже, и он скрылся в горах.
— Слушай, а на тебя похоже.
— Только тогда это действительно можно было сделать. Он поселился в пещерах неподалеку от буддистского монастыря в тяньцзинском районе Тянь-Тай, и единственным другом ему был смешной Безумец Дзэна по имени Ши-те, который подметал монастырь соломенной метлой. Ши-те тоже был поэтом, но почти ничего не записывал. Время от времени Хань Шан спускался с Холодной Горы в своем одеянии из древесной коры, заходил в теплую кухню и ждал, когда ему дадут еды, но никто из монахов не хотел его кормить, поскольку он не желал вступать в орден и трижды в день отзываться на колокол, зовущий к медитации. Видишь, вот почему в некоторых своих высказываниях, типа… слушай, я буду смотреть сюда и читать тебе прямо с китайского. — И я перегнулся ему через плечо и стал смотреть, как он читает эти дикие вороньи следы иероглифов: — «Взбираюсь вверх по тропе на Холодную Гору, тропа на Холодную Гору вьется все дальше и дальше, длинное горло ущелья давится щебнем и валунами, широкий ручей и трава, белесая в тумане, мох скользкий, хотя дождя не было, сосна поет, хотя нет ветра, кто может оторваться от уз мира и присесть со мною средь белых облаков?»
— Ух ты.
— Это, конечно, мой собственный перевод на английский, видишь — на каждую строчку по пять знаков, а мне приходится вставлять западные предлоги, артикли и все такое.
— А чего ты не переводишь так как есть: пять знаков — пять слов? Что это за первые пять знаков?
— Знак «взбираться», знак «вверх», знак «холодный», знак «гора», знак «тропа».
— Ну вот так и переводи: «Карабкаюсь вверх тропою Холодной Горы».
— Ага, а что тогда делать со знаком «длинный», знаком «горловина», знаком «забитый», знаком «обвал», знаком «валуны»?
— Где это?
— Третья строчка, тогда придется читать: «Длинная горловина забита валунами обвала».
— Да ведь так даже лучше!
— Н-ну да, я об этом тоже думал, но надо будет, чтобы одобрили специалисты по китайскому здесь, в университете, и чтобы по-английски звучало нормально.
— Слушай, какая четкая штука, — я оглядел его маленькую хижину, — и ты тут такой сидишь себе тихо, в этот тихий час, занимаешься совсем один, в очках…
— Рэй, тебе вот что надо — как можно скорее пойти со мною в горы. Хочешь залезть на Маттерхорн?
— Клево! А где это?
— В Высоких Сьеррах. Мы можем поехать туда с Генри Морли на его машине, взять рюкзаки и пойти от озера. Я к себе мог бы сложить всю еду и все, что нам понадобится, а ты попросил бы маленький мешок у Алвы и прихватил сменную обувь, носки и все остальное.
— А это что за иероглифы?
— Здесь написано, что Хань Шан после многих лет, проведенных в скитаниях по Холодной Горе, спустился повидаться с родней в городе — и говорит: «До недавнего времени я жил на Холодной Горе…» и так далее «…вчера зашел к друзьям и семье, и больше половины их пропало в Желтых Источниках…» это значит «смерть» — Желтые Источники… «А нынче утром я — лицом к лицу с моей одинокой тенью, не могу заниматься — глаза полны слез».
— Это тоже на тебя похоже, Джафи: заниматься с глазами, полными слез.
— Мои глаза вовсе не полны слез!
— А разве так не будет через много, много лет?
— Конечно, будет, Рэй… и еще вот смотри: «В горах холодно, здесь всегда было холодно, не только в этом году,» — видишь, он в натуре высоко, может, двенадцатъ или тринадцать тысяч футов или даже больше, в вышине — и говорит: «Зазубренные обрывы всегда заснежены, леса в темных ущельях изрыгают туман, трава еще только пробивается в конце июня, а листья уже начинают опадать в начале августа, и я вот здесь, летаю высоко как торчок…»
— Как торчок!
— Это мой собственный перевод, на самом деле он говорит: «вот я здесь, высоко, как сенсуалист из города внизу,» — но я это осовременил и облагородил.
— Четко. — Я спросил, почему Хань Шан стал для Джафи героем.
— Потому что, — ответил он, — Хань Шан был поэтом, горным человеком, буддистом, преданным принципу медитации на сущности всех вещей, к тому же, кстати, — вегетарианцем, но я еще по этому оттягу не встрял; я прикинул, что, наверное, в этом современном мире быть вегетарианцем — слегка отдает занудством, поскольку все разумные существа едят то, что могут. А он был человеком уединения, который мог отчалить сам по себе и жить чисто и верно самому себе.
— Это тоже звучит совсем как у тебя.
— И как у тебя тоже, Рэй, я ведь не забыл, что ты рассказывал мне, как в лесах там медитировал в Северной Каролине, и всякое такое. — Джафи стал очень печален, тих, я никогда не видел его таким спокойным, меланхоличным, задумчивым, голос его был нежен, словно голос мамы, казалось, он говорит откуда-то издалека с бедным страждущим существом (мною), которому необходимо услышать его призыв, он нисколько не прикидывался, он действительно был немного в трансе.
— Ты сегодня медитировал?
— Ага, я медитирую утром первым делом перед завтраком и всегда подолгу медитирую днем, если меня не перебивают.
— Кто тебя перебивает?
— Люди. Иногда — Кафлин, а вчера пришел Алва, и Рол Стурласон, и еще ко мне эта девчонка приходит поиграть в ябъюм.
— Ябъюм? Это еще что?
— Ты что — не знаешь про ябъюм, Смит? Потом расскажу. — Казалось, ему было слишком грустно, чтобы говорить сейчас о ябъюме, о котором я узнал две ночи спустя. Мы еще немного поговорили о Хань Шане и стихах на скалах, и когда я уже уходил, пришел его друг Рол Стурласон, высокий светловолосый симпатичный пацан — обсудить их предстоящую поездку в Японию. Этого Рола Стурласона интересовал знаменитый сад камней Рёандзи монастыря Сёкокудзи в Киото, который из себя не представлял ничего, кроме старых валунов, расставленных якобы в соответствии с мистической эстетикой — так, чтобы заставлять тысячи туристов и монахов каждый год совершать туда паломничество лишь для того, чтобы потаращиться на эти валуны в песке и через это обрести спокойствие духа. Я никогда не встречал настолько нелепых, но все же настолько серьезных и искренних людей. И больше ни разу не видел Рола Стурласона — он вскоре после этого уехал в Японию, но я никогда не забуду, что он сказал про эти валуны в ответ на мой вопрос:
— Ну а кто же расставил их в этом особом порядке, который такой четкий?
— Никто не знает — какой-нибудь монах или монахи, очень давно. Но в расположении камней есть определенная таинственная форма. Только через форму мы можем постичь пустоту. — Он показал мне фотографию этих валунов в песке, хорошо причесанном граблями: они походили на острова в море, как будто у них были глаза (их скаты), и их окружала аккуратно закрытая ширмами строгая монастырская терраса. Потом вытащил схему расстановки камней с проекцией сбоку и объяснил ее геометрическую логику и все такое, роняя фразы, вроде «одинокой индивидуальности», и что камни — это «толчки, вторгающиеся в пространство», и все это означает какие-то дела, связанные с коанами, которые меня интересовали не так сильно, как он сам, и в особенности — как милый добрый Джафи, заваривший нам еще чаю на своем шумном керосиновом примусе и подавший новые чашки почти что с молчаливым церемонным поклоном. Все это довольно сильно отличалось от того поэтического вечера.