Мне очень, очень нравится этот снимок. Точная парафраза отношения человека к окружающему миру. Прошел — и нет его. Предположим, Уильям Смит — или любой другой, кто проходил по улице в то утро, — передвинул бы телегу из точки А в точку В. Что бы мы увидели тогда? Расплывчатое пятно? Две телеги? А если бы он решил спилить дерево? Мы очень хорошо умеем расправляться с внешним миром — и когда-нибудь, возможно, преуспеем в этом радикально. Finis. И тогда истории действительно придет конец.
Уильяма Смита вдохновили напластования. С напластованиями моей жизни разобраться сложнее, они даже в голове моей не разделяются, а представляют собой круговерть образов и слов. Драконы, лунные тигры, крестоносцы и миляги…[35]
То китайское блюдо до сих пор в музее Ашмолеан. Я видела его в прошлом месяце.
Мне было тридцать восемь, когда родилась Лайза, и дела мои шли прекрасно. Две книги, нашумевшие публикации, репутация придирчивой, привлекающей к себе внимание провокаторши. у меня, в некотором роде, было имя. Если бы тогда был в ходу феминизм, думаю, без меня бы не обошлось. Но в реальности я никогда не тосковала по нему, то, что я женщина, казалось мне ценным преимуществом. Мой пол никогда не был для меня обузой, И сейчас я думаю, что это, возможно, спасло мне жизнь. Будь я мужчиной, я бы, пожалуй, погибла на войне.
Я хорошо понимаю, почему я стала историком. Лжеисториком, как назвал меня один из моих врагов, иссохший оксфордский гранд, боящийся высунуть нос за дверь родного колледжа. Тучи сгустились, когда я была ребенком: «Не спорь Клаудия», «Клаудия, ты не должна так со мной разговаривать». Конфликт — вот с чего начинается история. Спор, мое слово против твоего, мое свидетельство против твоего. Если бы существовала такая вещь, как истина, полемика бы утратила свои блеск. Меня, по крайней мере, она бы перестала интересовать. Я очень хорошо помню день, когда поняла, что мнение не имеет отношения к истории.
Мне было тринадцать. Я училась в школе для девочек мисс Лавенхэм. Это было в четвертом классе, мы проходили династию Тюдоров,[36] учительствовала сама мисс Лавенхэм. Она написала на доске имена и даты, и мы переписали их в тетради. Затем мы под ее диктовку записали основные характеристики царствующих персон. Генрих VIII был заклеймен за свои брачные излишества, да и как правитель он не блистал. Королева Елизавета была молодцом: она отбила атаки испанцев и правила твердой рукой. Помимо этого, она отрубила голову Марии, королеве Шотландской, католичке.[37] Был долгий летний день, наши перья скрипели по бумаге. Я подняла руку: «Скажите, мисс Лавенхэм, а католики одобрили то, что она отрубила Марии голову?» — «Нет, Клаудия, не думаю, чтобы они это одобрили». — «Скажите, а сейчас они поменяли свое мнение?» Мисс Лавенхэм вздохнула. «Клаудия, — мягко сказала она, — некоторые, возможно, и не поменяли. Люди не со всем бывают согласны. Но тебе не нужно об этом беспокоиться. Просто запиши то, что написано на доске. Чтобы заголовок был виден, его лучше записать красными чернилами…»
И вдруг серенький, как школьная форма, пруд истории задрожал, по нему заходили тысячи волн, я услышала бормотание голосов. Я положила перо и задумалась, я так и не выделила заголовки красными чернилами и в конце семестра получила на экзамене 38 % (очень слабо).
«От ярости норманнов, Боже, даруй нам избавление…» Чувствуете холодок между лопатками, вы, читающие это лежа на диване, когда горит свет и дверь заперта и двадцатый век уютно подоткнул вам одеяло? И конечно, Он ничего им не давал — или давал не всегда. Он не давал, но они об этом не знали. Он даровал только слова; бедный монах, который их записал, возможно, упал с перерезанной викингами глоткой или сгорел заживо вместе со своей церковью.
Когда мне было девять лет, я просила Господа уничтожить моего брата Гордона. Безболезненно, но наверняка. Это было на Линдисфарне,[38] куда нас привезли не для того, чтобы мы забивали голову набегами викингов, о которых мама, возможно, никогда не слышала, а чтобы гулять по дамбе и затем устроить пикник. Мы с Гордоном перебегали эту полоску земли. Гордон был на год старше и бегал быстрее, ничего удивительного, что он все время побеждал. И тогда я выдохнула эту молитву, с яростью и страстью, искренне — о да, искренне желая ее исполнения. Никогда больше я не попрошу Тебя ни о чем. Ни о чем вообще. Только сделай это. Сейчас. Немедленно. Любопытно, что я просила Бога уничтожить Гордона, а не сделать меня лучшим бегуном. И конечно, Бог не сделал ничего подобного, и весь этот восхитительный, пропахший морем день я проходила надувшись, и стала агностиком.
Много лет спустя мы вернулись туда — Гордон и я. На этот раз мы не бегали. Мы чинно гуляли, обсуждали, помнится, Третий рейх и предстоящую войну. И я вспомнила ту молитву монахов Линдисфарна и сказала, что похоже, будто викинги вернулись, алые паруса на горизонте, мужчины, обвешанные оружием, шагают тяжело. Кричали чайки, и дерн на холмах пружинил под ногами и пестрел цветами — вне всякого сомнения, так же, как в девятом веке. Мы ели сандвичи и пили имбирное пиво среди развалин, а потом лежали на солнышке в лощине. Еще не было Джаспера и Лайзы. Сильвии. Лазло. Египта. Индии. Напластования еще не сформированы.
Мы говорили о том, что собираемся делать во время войны и после — если будет какое-нибудь после. Гордон хотел изловчиться и попасть в разведку (в те дни все ловчили, пускали в ход связи). Я знала, чего хочу. Я собиралась стать военным корреспондентом. Гордон смеялся. Он сказал, что невысоко оценивает мои шансы. Попробуй, сказал он, удачи тебе, конечно, но честно говоря… Тут я припустила от него. Вот увидишь, сказала я. Вот увидишь. И ему пришлось догонять меня и искать примирения. Мы по-прежнему были соперниками. Помимо всего прочего. Вместе со всем прочим. Тогда и позже.
Доктор останавливается и смотрит сквозь стеклянное окошечко: «С кем это она говорит? У нее что, гости?» Сиделка качает головой, несколько мгновений они смотрят на пациентку, губы которой двигаются, а выражение лица… решительное.
Все, кажется, в порядке, и они уходят по коридору, поскрипывая подошвами.
Они с Гордоном были противниками не только на продуваемом морскими ветрами берегу Линдисфарна, но и в ядовито-розовой, пропахшей алкоголем атмосфере кафе «Горгулья» образца 1946 года. Ее лихорадит, она упивается собственным триумфом. Гордон хмурится.
— Он мерзкий тип, — говорит он.
— Заткнись.
— Он нас не слышит. Он и здесь занят карьерой.
Джаспер стоит возле соседнего столика, в паре ярдов от нас, и разговаривает с сидящими. Его загорелое лицо, снизу подсвеченное стоящими на столе свечами, красивое и выразительное. Он жестикулирует, стараясь как можно ясней выразить свою мысль, раздается смех.
— Ты всегда выбирала каких-то темных типов, — гнет свою линию Гордон.
— Да неужели? — спрашивает Клаудия. — Какое интересное наблюдение.
Они смотрят друг на друга.
— Да прекратите вы оба, — вмешивается Сильвия. — Мы же праздновать пришли.
— Вот именно, — говорит Гордон, — вот именно. Давай, Клаудия, празднуй.
Он опрокидывает бутылку в ее стакан.
— С ума сойти, — говорит Сильвия, — друзья в Оксфорде! До сих пор не верится.
Она не сводит глаз с Гордона, а тот не смотрит на нее. Она выщипнула нитку из рукава его пиджака, дотронулась до его руки, вынула пачку сигарет, уронила их, подняла с пола.
Клаудия по-прежнему смотрит на Гордона. Уголком глаза она то и дело поглядывает на Джаспера. Другие посетители тоже смотрят на Джаспера: он из тех, кого люди замечают. Она подняла стакан:
— Еще раз поздравляю. Напомнишь мне, когда у вас будет обед для почетных гостей. Я приду.
— Не выйдет, — отвечает Гордон, — там только мужчины.
— Какое безобразие, — говорит Клаудия.
— Где ты его откопала?
— Кого?
— Ты прекрасно знаешь, о ком я.
— А… ты о Джаспере. Ну… где же это было? Я пришла к нему брать интервью для книги.
— Ах да, — радостно спрашивает Сильвия, — как твоя книга?
На нее не обращают внимания. Джаспер возвращается к столу. Садится, кладет свою руку на руку Клаудии.
— Я попросил принести бутылочку шампанского. Так что допивайте.
Сильвия пытается достать сигарету, роняет пачку, наклоняется за ней и чувствует, как разваливается сделанная в дорогой парикмахерской прическа. И платье неудачное: слишком розовое, нарядное, девчоночье. Клаудия в черном, с очень глубоким вырезом и бирюзовым ремнем.
— Как твоя книга? — спрашивает Сильвия.
Клаудия не отвечает, и Сильвии приходится заполнить паузу: зажечь сигарету, сделать затяжку и оглядеть зал — как если бы она и не ожидала ответа.
Так было всегда. Всегда, когда с ними была Клаудия. Электрические разряды в воздухе — вне зависимости от того, спорили они или нет (видит бог, сама она никогда так не спорила со своим братом), будто никого другого не существовало. Кажется, будто ты только мешаешь и лучше бы тебе уйти. И Гордон до сих пор к ней не притронулся.

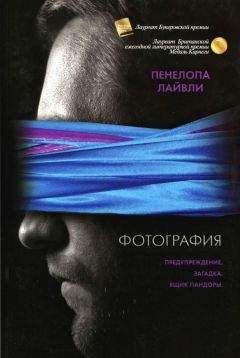

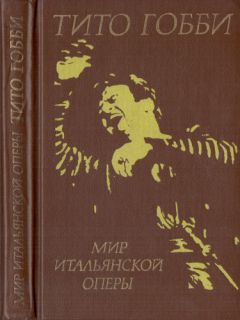
![Филип Фармер - Властелин тигр [= Владыка тигр, Бог-тигр, Властитель тигр, Лорд Тигр]](https://cdn.my-library.info/books/21569/21569.jpg)