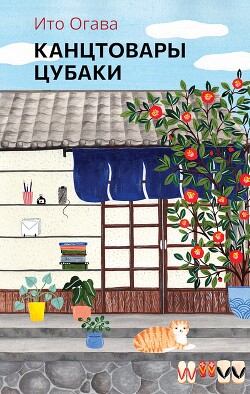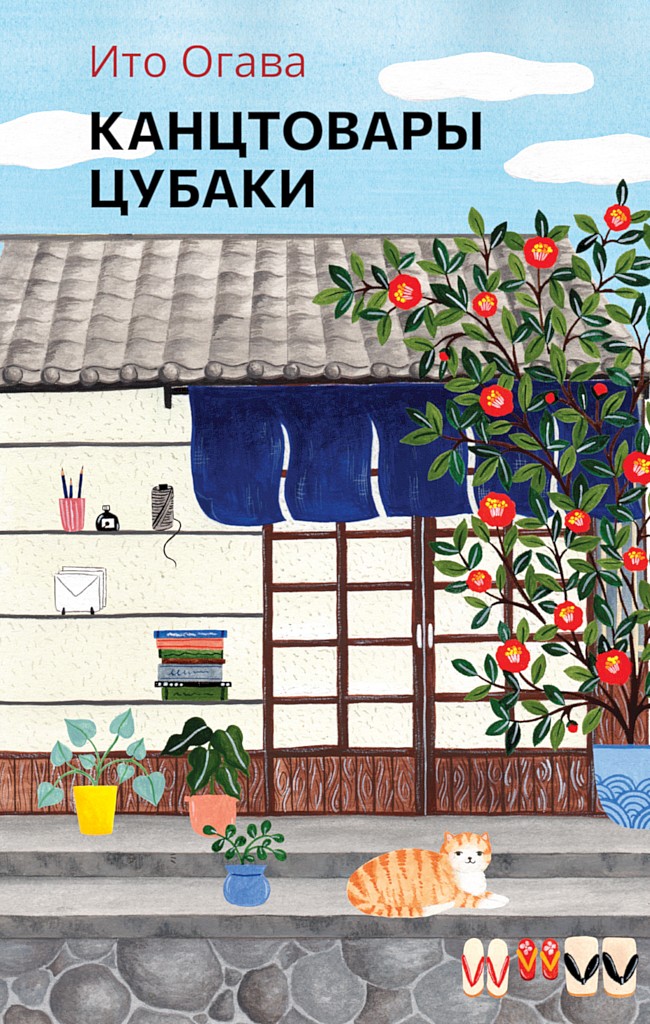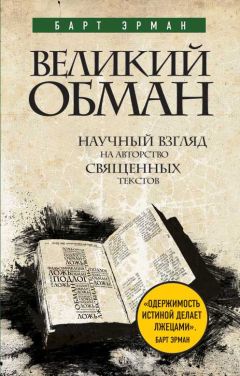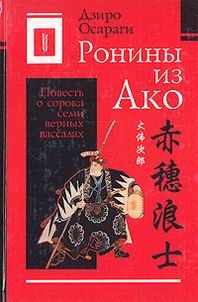Ужинаю я, как правило, где-нибудь в городе. От такой привычки, понятное дело, мой коэффициент Энгеля задирается до небес, но готовить ужин дома только для одной себя просто выше моих сил. По счастью, в таком туристическом раю, как наша Камакура, вопроса, где вкусно поесть, не возникает вообще: шагай по любой улочке да выбирай чего душа пожелает.
Сегодня — впервые в этом году — душа моя пожелала охлажденного рамэна. А уже после лапшевни захотела вернуться немного в обход — через святилище Кама́кура-гу [13]. Конечно, к дамочкам, разгуливающим в одиночку после заката, Камакуре не привыкать, но по вечерам ее улочки просто жуть какие темные. Особенно те, что ближе к горам: фонари там почти не горят. На часах еще нет и восьми, а вокруг хоть глаз выколи.
Чтобы придать себе смелости, я постукивала и пришаркивала деревянными сандалиями при ходьбе. Дождь к вечеру перестал, но тучи над головой могли разразиться очередным ливнем в любую секунду.
Но если храм Хатиман-гу — обитель духа Минамо́то Ёрито́мо [14], который основал здешний сёгунат, то храм Камакура-гу возносит молитвы за души тех, при ком этот сёгунат пал. На его заднем дворе до сих пор сохранилась темница, в которой доблестный принц Морина́га перед тем, как лишиться головы, томился целых девять месяцев. И за небольшую плату можно даже заглянуть туда внутрь.
Вот почему всякий раз, когда я оказываюсь у двух этих храмов, посещать их оба мне слишком неловко, а предпочесть какой-то один не хватает решимости.
В итоге я, как всегда, поднялась по каменной лестнице, что ведет к ним обоим, и на верхней площадке просто сложила в молитве руки — перед огромной головой дракона, подсвеченной лучами прожекторов.
Вернувшись домой, я освежилась под душем. Затем достала из ящика стола павлониевую шкатулку для писем, которой так дорожила Наставница. Осторожно открыла крышку. Внутри были кистевые фломастеры, ручки с пером и так далее — полный набор инструментов для каллиграфии.
Лакированная крышка снаружи инкрустирована перламутровыми голубями. Когда-то эту шкатулку по особому заказу Наставницы изготовил мастер в Киото. Но драгоценные камни из птичьих глазниц давно выпали, а длинные перышки на хвостах незатейливо подклеены прозрачным скотчем — лишь бы не потерялись. Для меня эта шкатулка — немое свидетельство, напоминание о тенях зловещего прошлого.
Первым, что я выучила наизусть, были слова детской песенки «Ироха́» [15].
И-ро-ха-ни-хо-хэ-то — и так далее, до самой последней буковки, су. Все эти полсотни слогов я могла перечислить один за другим без запинки уже годика в полтора, а написать на бумаге — в три. Блестящий результат усилий Наставницы, приучившей меня к этим навыкам сызмальства и на всю оставшуюся жизнь.
За кисть я взялась в шесть лет. Шестого числа шестого месяца. «Без хорошей тренировки — ни уменья, ни сноровки!» — объявила Наставница и подарила мне первую в жизни персональную кисточку. Из волосинок, которые состригли с меня же новорожденной.
Тот день я до сих пор вспоминаю отчетливо, во всех деталях.
Когда я вернулась из школы, Наставница уже дожидалась меня с парой белых гольфов. Самых обычных, до колен — без особых прикрас, если не считать голубых зайчиков на икрах. Не успела я натянуть их, как Наставница отчеканила:
— Хатоко. Сядь сюда.
И лицо ее непривычно окаменело.
Я уселась, как велено, за низенький столик, уперев колени в татами. Застелила столешницу грубым крафтом. Выложила перед собою стандартный лист волокнистой бумаги, прижала его по краям деревянными пресс-папье. Ритуал, который до сих пор на моих глазах исполняла Наставница, пора повторить и мне. Перед моими глазами — бумага, кисть, брикетик туши, каменная тушечница. Все «друзья каллиграфа» [16] застыли наизготовку.
Слушая голос Наставницы, я решительно подавляю в себе желание куда-нибудь смыться. Или сами ее наставления вдохновляют меня так, что я не чую под собою ног?
И вот, наконец, можно подготовить тушь. Капнуть на каменное донышко водой — раз, другой — и вдумчиво растирать в ней черный брикетик до полного растворения. Уютный, заветный процесс, погрузиться в который я мечтала уже так давно.
До того дня Наставница не позволяла мне даже притрагиваться к ее инструментам. Всякий раз, обнаружив, что я развлекалась с ними вместо игрушек, она запирала меня в чулане. А то и оставляла без ужина. Но, насколько я помню, чем яростнее она повторяла: «Даже приближаться не смей!» — тем неотвратимее меня к ним тянуло.
Из всех «сокровищ каллиграфа», помню, сильнее всего меня притягивала тушь. Так и подмывало лизнуть этот загадочный кирпичик и понять, каков он на вкус. Уж наверняка покруче леденцов или шоколада, думала я, изнывая от любопытства. А от слабого, таинственного аромата, что растекался вокруг Наставницы, когда она растирала тушь, я просто замирала в восторге.
Вот почему шестой день шестого месяца, когда мне стукнуло шесть лет от роду, стал еще и днем моего каллиграфического дебюта. Увы! Даже завладев заветным брикетиком, я еще долго не понимала, как с ним обращаться, и получала от Наставницы один нагоняй за другим.
Казалось бы, чего проще — три себе тушь о камень да размешивай в воде. Однако мне, шестилетней, этот процесс показался жутко мудреным и долгим. Чтобы его ускорить, я попыталась держать брикетик под наклоном, но тут же получила от Наставницы по рукам. А о том, чтобы лизнуть заветную черноту на вкус, даже думать забыла.
В тот первый день я только и делала, что прописывала колечки. Спираль за спиралью, строка за строкой выводила кистью на стандартном листе пузатую букву «но» [17]. Пока Наставница направляла мою руку своей, это казалось совсем не сложно. Но как только пробовала я сама, линии тут же начинали вихлять из стороны в сторону, превращаясь то в худосочных червячков, то в извивающихся змей, то в обожравшихся крокодилов, из-за чего я никак не могла успокоиться.
Кисть не заваливай, держи вертикально.
Локоть оторви от стола, пиши на весу.
Спину выпрями.
По сторонам не зыркай, гляди только перед собой.
Следи за дыханием.
Изо всех сил я старалась выполнить все эти наставления сразу, но в результате лишь сильнее напрягалась, тяжелее дышала да испуганнее суетилась.
Вскоре столешницу передо мной докуда хватало глаз устилали бумажные листы, испещренные моими перекошенными колечками. Чем упорнее я пыталась выписать их как следует, тем корявее они выходили. Оно и понятно, чего еще ожидать от первоклашки? [18]
Было ясно: мой первый день обучения ремеслу, мягко говоря, успехами не увенчался.
Боясь обмануть надежды Наставницы, я упрямо выводила колечко за колечком снова и снова. Но как только я наловчилась выдавать большое и ровное «но» одним движением руки, мне тут же велели вывернуть ту же букву наизнанку и закручивать ее теперь уже против часовой стрелки, справа налево.
С тех пор каждый день моего детства, как правило, заканчивался одинаково: сразу после ужина наступало время каллиграфии. До второго класса — по часу, до четвертого — по полтора и до шестого — по два часа в день Наставница неотступно нависала надо мной, готовя себе преемницу — очередного потомственного мастера кистевого письма.
Зеркальная «но» давалась мне с неохотой — пальцы не понимали, куда выворачивать кисть. Лишь попытки с тридцатой начала выходить и она — нужных размеров, баланса и толщины.
Поскольку хирагана — азбука прописная, ее мягкие, волнистые знаки могут прописываться и слитно, будто вышитые одной нитью. Умение писать красиво, почти не отрывая кисти от бумаги, Наставница считала основой нашего мастерства и именно эти навыки вколачивала в меня с особой дотошностью.