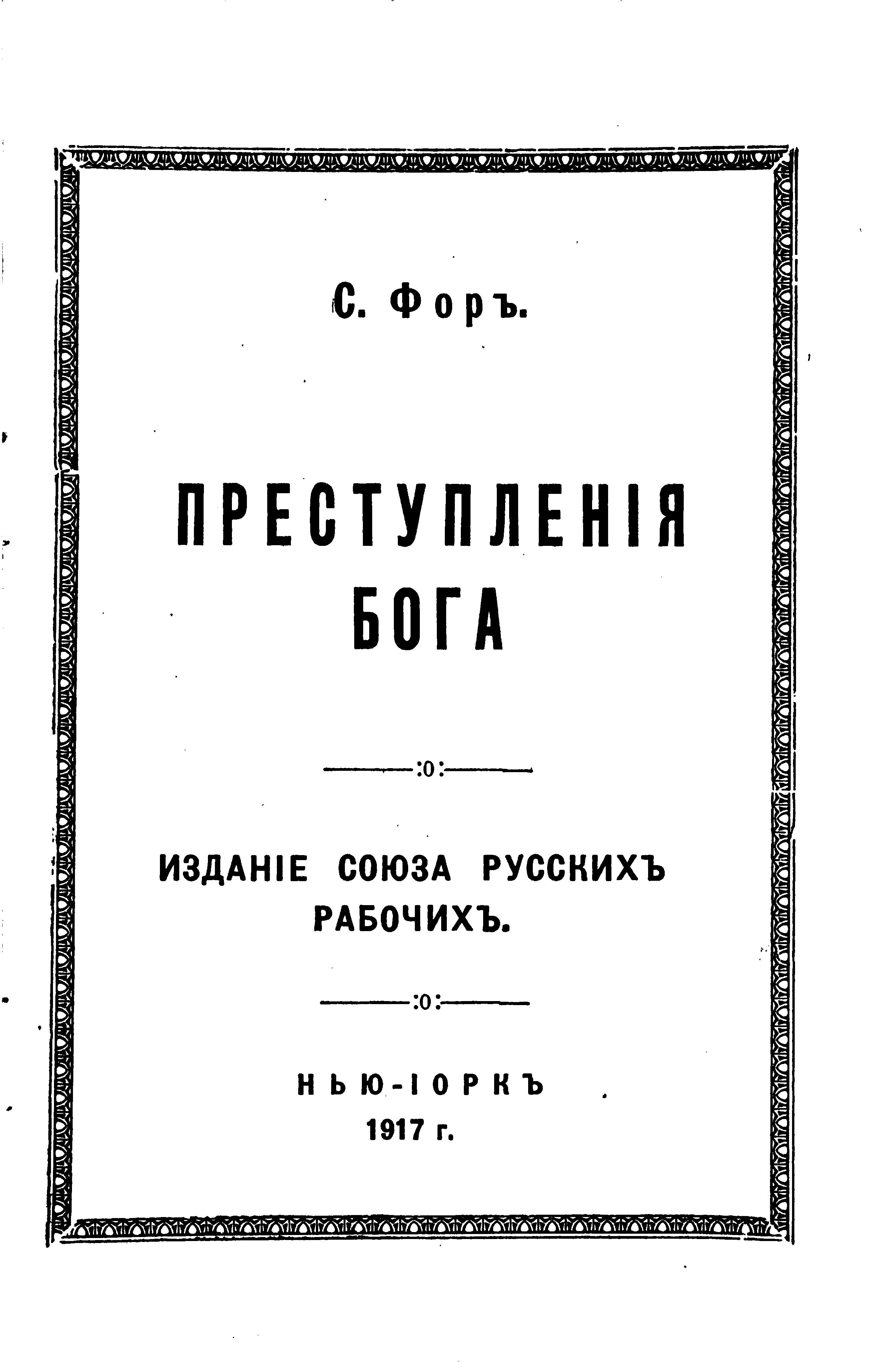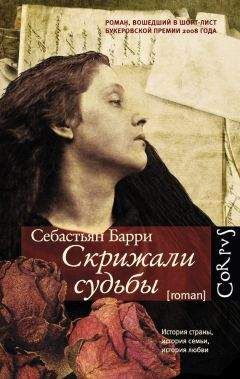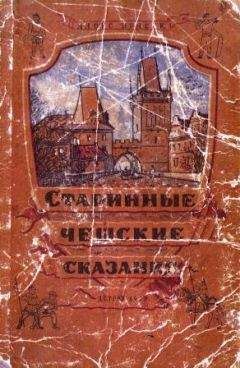О’Кейси собирался продолжить, но Том его тут же остановил:
— Нет уж, ребята, только не святоши эти чертовы. — И он вскочил с удивительной быстротой и ловкостью. — Ну уж нет.
Выглядело это, должно быть, слегка комично, потому что О’Кейси не выдержал и прыснул, но ему удалось плавно перейти от смеха к словам, да и Том Кеттл был не из обидчивых, знал, что в делах людских почти всегда есть юмор — торчит, словно кинжал.
— Знаем — в общем, Флеминг нам рассказал… Боже, Боже, мистер Кеттл — но, само собой, времена изменились, понимаете?
— Видит Бог… — проронил Том нехотя, “странным сдавленным голоском”, как позже заметит О’Кейси. — Нет хуже страдания. И никто мне помочь не мог.
Вот же черт, сорвалось с языка. Что он вообще сказать хотел? “Никто мне помочь не мог”. Не “мне” он хотел сказать, а “им”. Ради Бога, ребята, ступайте домой. Вы меня тянете неведомо куда. Туда, где скрыто все самое гадкое. Грязная тьма, насилие. Руки священников. Молчание. Подумаешь, Том Кеттл, он все близко к сердцу принимает. Убил бы, так бы и прикончил, прихлопнул, заколол, пристрелил, изувечил, на куски искромсал, и все из-за этого молчания. Лучше бы убил, прикончил. Он ощутил ненависть, жгучую ненависть. Вновь провалился в бездну унижения. Даже спустя столько лет чувства эти живы и оправданы.
И вот он стоит и дрожит. Неужто сейчас его хватит удар? Уилсон и О’Кейси уставились на него разинув рты. Его вновь разобрал смех. Не хотелось бы, чтобы его разбил инсульт, но он все стерпит, лишь бы их спровадить. О чем он говорил? Черт, ну и ночка! Ветер за окнами так и завывает, не дает спать бакланам на черных холодных камнях. Славные все-таки птицы бакланы. А сосед — убийца, со своей снайперской винтовкой — кажется, “ремингтон”. Совсем не то что старая “ли-энфилд”, которую выдали Тому в Малайе, чтобы стрелять издалека по невинным людям. Смерть, будто ниспосланная свыше. А в остальном он, сосед, славный малый. Виолончелист, часами Баха наяривает. Ветер, вволю порезвившись на острове и побесчинствовав над морем, теперь обрушил на зубчатые стены замка соленый дождь ведрами, бассейнами, цистернами. Боже, настоящий ураган! Неужто не уймется?
— Поджарю вам гренки с сыром, — обреченно сказал Том.
Глава
2
Что ж, ничего не поделаешь. Пока дегустировали гренки с сыром — кстати, оценили их неожиданно высоко: “Вкуснота, зашибись! — похвалил Уилсон. — Простите за выражение”, — буря разгулялась такая, будто стихии вознамерились превратить побережье Долки в мыс Горн. Судя по звукам, шквал пожаловал сюда, в комнату. Уилсон, ни слова не говоря, смотрел большими влажными глазами, совсем детскими. Смотрел не на что-то определенное, а просто вокруг. Казалось, шторм его напугал. Том вдруг ощутил к нему прилив отеческой нежности. Он же старший по званию, как-никак. И он обязан — да, конечно, обязан, хоть и может в итоге об этом пожалеть, — приютить их на ночь.
Когда он готовил гренки, он рад был, что никто из гостей не вызвался ему помочь. Духовка с грилем представляла собой таинственный уголок, вроде сырой опасной пещеры. Том давно собирался пройтись там тряпкой с куском мыла, но, может статься, лучше не тревожить притаившиеся там ужасы. В былые времена он бы не раздумывая соскоблил ножом каплю расплавленного сыра и намазал на хлеб, а сейчас не стал бы, еще не хватало ему обострения язвы. Не буди язву, пока спит, ни к чему лишний жир. Запущенная духовка была одним из тех первородных грехов, что напоминали о себе всякий раз, стоило заглянуть на кухню. Том чувствовал, что его долг перед мистером Томелти ее почистить, но чувствовал смутно. Да и Винни наверняка наградит его суровым взглядом и примется выговаривать ему за все, в том числе за духовку. А еще за “состояние сортира”, как она выражается. “Неужели нет у тебя под рукой бутылки хлорки?” — спросит она участливо, обреченно. Но ему-то хорошо известно, что сайды, угри и камбалы хлорку не оценят — ведь каждая капля воды по трубам, что проложены под садом, попадает прямиком в грозное море. Хватит с них и прочей грязи, и так им приходится плавать среди дерьма и еще бог знает какой мерзости. Когда Винни раз в кои-то веки ныряла с небольшого бетонного мола, она назвала это “отбывать номер”. Умница она, и с юмором. Выпускница университета, юрист. Его гордость. Первый курс закончила с блеском, потом ее мать умерла, и она, опустошенная, училась кое-как, выпустилась, облачившись, словно в лучший наряд, в свое горе. В те дни ей как будто ничего не было нужно, потому что у нее ничего и не было. Ничего, только он и Джозеф, который скоро уедет. Как-то раз она обмолвилась, что ей не хватает мужа, но таким тоном, словно для нее это пустяк.
Уилсон уплетал гренки беззаботно — сразу видно, в духовку не заглядывал. О’Кейси за еду принялся с некоторой опаской. Он более утонченный, подумал Том, почти любуясь им, даже сострадая ему. О’Кейси принюхался украдкой и улыбнулся, чтобы не обидеть хозяина:
— Ммм, весьма недурно, мистер Кеттл.
О’Кейси чуть побледнел, но храбро приступил к делу.
Винни ни разу не похвалила его кулинарное искусство — ведь, если уж говорить правду, какое это искусство? Так, кормежка, ради подкрепления сил. Он на секунду задумался: похвалили бы они слипшееся холодное рагу в запотевшей кастрюле? (Интересный научный факт: от холода алюминиевые стенки потеют снаружи.) Похвала всегда будила в нем нездоровую жажду новых свершений, даже если она сдобрена иронией. Глупо. Гренки с сыром и ребенок приготовит — впрочем, в годы его детства не изобрели еще ни ломтики сыра в пластиковой упаковке, ни белесый нарезанный хлеб, на котором эти желтые квадратики послушно тают. Цвет у них совсем не сырный, ей-богу. Не так давно Том бесстрашно переступил порог Национальной галереи Ирландии. Он был убежден, что пенсионерам пристало расширять кругозор, напрягать ум, заскорузлый от старости и от работы в узкой сфере. Вдобавок у него бесплатный проездной, грех не воспользоваться хоть иногда. И раз в кои-то веки он выбрался в город, презрев уединение во имя просвещения, а то и исцеления, и сел на восьмой автобус. Блуждал по гулким мраморным залам, по лабиринтам мрачных картин, испуганный, робкий, притихший — пришлось юркнуть украдкой в нишу, чтобы рыгнуть после бутерброда с говядиной, съеденного в кафе, — и случайно наткнулся на крохотный пейзаж. На все хорошее в жизни всегда натыкаешься случайно. Картина привлекла его своей скромностью на фоне больших полотен — словно душа человеческая в огромном мире, среди слонов и галактик. Миниатюра, “сельский пейзаж”. Писсарро, сообщала табличка. Он уставился на картину в порыве неистовой благодарности, думая о Франции и о французской деревне, где он никогда не бывал, и гадая про себя, что же напоминает ему желтый квадратик пшеничного поля — и только на обратном пути, на Меррион-сквер, сообразил. Ломтик плавленого сыра. Что ж, вот и расширил кругозор.
Ну а теперь вперед, на Меррион-стрит, в его любимый Музей естествознания. Кости гигантского оленя, что не топчет больше просторы Ирландии, скелет синего кита под потолком, и лестницы с железными перилами, и верхние галереи, словно остов еще одного исполинского кита — кит в ките, а сам он, выходит, Иона в квадрате — о святое, благословенное место!
О’Кейси, признавшись, что у него тоже язва, встал из-за стола, едва покончив со своей порцией, прислонился к декоративной панели — та слегка прогнулась — и отвернулся смущенно, как наказанный школьник. Правая рука взлетела ко лбу, его прошиб пот. “Где… это?” — простонал он, подхваченный волной страдания, а правой рукой все отирал лоб, и та трепетала, словно порываясь взлететь, как голубь об одном крыле. Следующие полчаса он провел в уборной — для уборной в чужом доме, как ни крути, многовато. Поскольку строители, нанятые мистером Томелти, не особо старались сделать стены потолще, все его страдания были на слуху. Из-за стены неслись стоны, дикие, почти первобытные жалобы, призывы к Господу Богу. Все эти полчаса, пока ветер сотрясал стены, а дождь молотил в стекла, Уилсон улыбался, и покрякивал, и посмеивался, сытый и довольный. Том снова был зачарован — ему по душе пришлось столь открытое проявление дружбы. Эти двое как солдаты в окопе, все у них наружу, все как на ладони. Его задело за живое. Ему снова стало хорошо рядом с этими ребятами, хоть он и боялся и их разговоров, и их самих. Дружба Уилсона и О’Кейси, закаленная в горниле страданий — нет, скорее, в жерле, ведь в животе у бедняги бурлили, словно лава, гренки с сыром, — вновь тронула Тома чуть ли не до слез. Можно ли заговорить о любви, о спасительной силе мужской дружбы? Нет, не к месту напыщенные речи среди мужчин, ни сейчас, ни потом. Придется смириться, как ни печально. Вместо слов Том достал банку желудочного порошка, припасенную на такой случай, и передал страдальцу — осторожно просунул в дверь руку, не нарушая священного уединения О’Кейси. Тот банку не выхватил, а взял бережно, как воспитанный пес берет из рук лакомство.