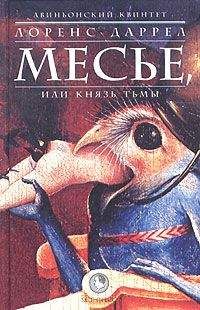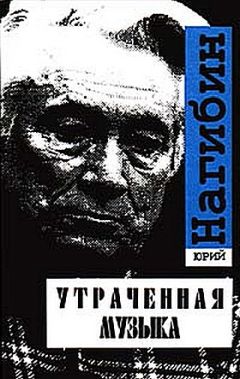- Добрый день, господин коммерсант! Почему вы к нам больше не заходите?
- Разве вы не слышали о моих обстоятельствах, дорогая Жужа? - вздохнул Кальман.
- Вы столько сделали для города, и никто не поддержал вас в трудную минуту, - искреннее сочувствие было в ее голосе.
- Такова жизнь! - философски заметил Кальман.
- Хотите рюмочку чего-нибудь?
- Спасибо, сердце пошаливает…
- Жаль, девочки еще спят… Хотя… Марица!..
Из двери высунулась Манечка с перевязанной щекой. Кальман вздрогнул, испытав жутковатое чувство повтора уже раз пережитого.
- Это что еще такое? - грозно спросила хозяйка.
- Жубы, - с трудом проговорила Манечка, вид у нее был довольно затрапезный. - Опять режутся, теперь сверху.
- Тьфу на тебя! Ступай на кухню. Не отпугивай посетителей.
Кальман приподнял котелок и побрел дальше, позабыв о выправке.
- Такова жизнь, - пробормотала ему вслед мадам Жужа…
Дома Кальмана ожидал очередной сюрприз. У дверей стояли подводы, дюжие молодцы выносили из квартиры рояль. На одну из подвод уже были погружены кровати, диваны, комод и огромный платяной шкаф с зеркалом. За грузчиками, выносившими рояль, с плачем тащилась старая служанка Ева и, потрясая кулаками, вопила:
- Осторожней, ироды! Рояль дорогая, на ней барин молодой играет. Испортите вещь, что мы барину скажем?
- Успокойтесь, Ева, - сказал Кальман. - Эти вещи уже не вернутся.
- Как не вернутся? - опешила Ева.
- Их описали.
- Это писатели, что ли, утрешние? - сообразила старуха. - Всю квартиру облазили и все пишут, пишут, пишут, как ненормальные.
- Они не писатели, - улыбнулся Кальман. - Куда хуже - финансовые инспектора.
- Ну, мне такого без стакана палинки не выговорить, - проворчала Ева. - Что же, мы в пустом доме останемся?
- Нет, не останемся. Дом тоже описан.
И мимо онемевшей Евы вошел в парадное.
Жена, старший сын Бела и четыре дочери ждали его в пустой комнате, служившей некогда столовой. Мимо них из других комнат то и дело проносили всевозможные вещи. «Писатели», устроившиеся в коридоре за столом-маркетри, помечали изъятые вещи в длинном списке.
- Отказали? - спросила жена; она выплакала все слезы и сейчас производила впечатление относительного спокойствия.
- Разумеется… Сегодня же отправимся в Пешт.
- Отец, я не поеду, - сказал Бела.
- Что это значит? - нахмурился Кальман.
- Я пойду служить в банк. Кто-то должен работать. Мы не можем всей семьей сесть на шею родственникам.
- Ты пойдешь работать в банк, который нас разорил?
- Да. Я уже был там. Я сказал: вы отняли у нас все. Так дайте мне возможность помогать семье.
- И они взяли тебя?
- Без звука!.. Впрочем, сперва устроили небольшой экзамен. Но ведь я хорошо подготовлен. Тут нет никакого благородства с их стороны, отец. Работы будет много, а жалованье маленькое.
- Тут есть великое благородство, сын мой! - патетически воскликнул господин Кальман, который, не читав Диккенса, порой в точности повторял интонации и жесты бессмертного мистера Майкобера. - Твое благородство. Разреши обнять тебя от всего сердца. Жена, дочери, перед вами редкий пример самопожертвования, запомните этот миг. - Он смахнул слезу. - Но что делать с нашим меньшим, нашим Вениамином, что в детском неведении резвится в поместье своего родовитого школьного друга? - впав в деланный тон, папа Кальман не мог от него избавиться.
- Надо написать ему, чтобы он сидел там как можно дольше, - предложила мадам Кальман. - Куда нам его девать?
- Но разве добрая будапештская тетка не приютит бедного сиротку? - витийствовал господин Кальман.
- Побойся бога, дорогой, какой же Имре сиротка? Мы, слава богу, живы и не собираемся умирать. Ну, потеряли деньги, было бы здоровье и мужество.
- Здоровье и мужество - ты это хорошо сказала. Молодец, женушка! Правда, я предпочел бы деньги. Ладно, напиши ему, чтобы сидел на месте. Экий счастливчик! Мы будем ютиться невесть где, а он - наслаждается жизнью и лучшим поместьем нашего округа! Итак, будем собираться.
- Собирать нам нечего. Все при нас.
- Тем лучше, - беспечно сказал господин Кальман. - Не придется тратиться на перевозку.
- И на носильщика, - добавила жена.
- И на оплату багажа, - заметил Бела.
- И на носильщика в Пеште, - сказала Розика.
- И на подводу, - добавила Вильма.
- Колоссальная экономия! - обрадовался господин Кальман. - Ну, дети, присядем на дорогу… А, черт, ни одного стула. Плевать, мы люди не суеверные. Вперед, к новой жизни!.. Хей-я!..
Не ведая о несчастье, постигшем семью, юный Имре безмятежно резвился в садах первых шиофокских богачей - родителей его школьного приятеля Золтана.
Тот роковой день начался, как обычно, с шоколада и лимонного торта на открытой террасе, овеваемой ароматом роз. Два упитанных мальчика быстро разделались с угощением и вытерли салфетками коричневые сладкие усы. На них умильно поглядывала чинная и томная мама Золтана, одетая так, словно вокруг не сельская пустынность, а будапештская эспланада: огромная, словно цветочная клумба, шляпа, отделанное кружевами платье и митенки.
- Кем ты хочешь стать, Имре, когда вырастешь? - спросила дама, не потому что это ее сильно интересовало, а потому что этикет требует занимать гостя.
- Министром юстиции, - не задумываясь, ответил Имре.
Аппетит его повысился за минувшие годы.
- Какой умница! - умилилась дама. - Ты наверняка будешь министром при связях твоего дорогого отца и влиянии, каким он пользуется в Шиофоке. Ну, а ты, мой мальчик?
Завистливо поглядев на Имре: ишь, в министры шагнул - и шумно втянув воздух полуоткрытым ртом - аденоиды - Золтан выпалил:
- Императором!
Дама испуганно замахала руками.
- Глупыш! - произнесла она с интонацией, подразумевавшей более крепкое слово. - Для этого надо быть Габсбургом, а не Габором.
- А я поменяю фамилию, - находчиво отозвался сын.
Матери очень хотелось дать ему подзатыльник, но неудобно было в присутствии постороннего; она тщетно придумывала подобающую случаю сентенцию.
- Почтальон!.. Почтальон!.. - закричал Золтан и кинулся с террасы навстречу человеку в форме и с большой кожаной сумкой через плечо.
Он вернулся с ворохом конвертов, газет, рекламных проспектов.
- Тебе, Кальман, письмо. А это все тебе, мама.
Имре схватил письмо и, узнав каллиграфический почерк старшего брата, отбежал к кустам жимолости, чтобы без помех прочесть дорогие строки.
«Братишка, - писал Бела, - отец разорился, и нас выгнали из родного дома. Где мы будем жить, неизвестно. Постарайся пробыть у своих друзей как можно дольше, а потом поезжай к нашей доброй тетке в Будапешт. Так решил семейный совет. Не вешай носа, малыш. Твой любящий брат Бела».
Имре заревел сразу, без разгона.
Дама, в отличие от сына, у которого был неважный ушной аппарат, услышала этот плач и как-то нехорошо усмехнулась. С плотоядным видом она перечитала только что полученное ею письмо и удовлетворенно покачала головой:
- Сколько веревочке ни виться, все кончику быть!
- Что? - гнусаво спросил сын.
- То!.. Приезжает младший Вереци, а ты мне ничего не сказал.
- Его мать сама тебе писала. И когда еще он приедет!..
- Когда, когда!.. А если завтра, что тогда?
Сын оторопело посмотрел на мать.
- Позови мне Яноша.
- Какого Яноша?.. Тут каждый второй Янош.
- Кучера, кого же еще… Живо!..
Сын нехотя потащился выполнять поручение, а к даме робко приблизился зареванный Имре. Она сделала вид, будто не замечает его мокрых глаз и дорожек слез на щеках.
- Куда ты девался? - голос был совсем не похож на прежний, в нем звучал холодный металл. - Тебе пора собираться. К Золтану приезжает старый друг, надо подготовить спальню.
- А мне нельзя еще побыть у вас? - застенчиво сказал Имре. - Мама просит…
- Ты же слышал: приезжает новый гость.
- У вас такой большой дом, - прошептал Имре. - Я мог бы спать в чулане.
- Что ты бурчишь?.. В каком чулане?.. Это неприлично. Янош отвезет тебя на станцию, как раз успеешь к поезду. Ты ведь едешь в Будапешт? - произнесла она с нажимом.
И мальчик понял, что мать его друга, совсем недавно столь ласковая и приветливая, все знает, но вместо сострадания испытывает лишь одно чувство: скорее избавиться от сына банкрота. Он понял, что такое бедность, и испугался этого на всю жизнь.
Дама повернула все так ловко, что Имре едва успел попрощаться с Золтаном, и вот он уже трясется в разбитых дрожках, а Янош нахлестывает залысые крупы старых пони. Выезд непарадный…
…Он с трудом добрался со своим баульчиком от вокзала до теткиного дома в одной из длинных и глубоких, как ущелье, улиц Пешта. Час был поздний, но в редких окнах еще горел свет, Трусил ли он, совсем один, посреди чужого огромного города, медленно погружающегося в ночь? Он мог заблудиться, его могли ограбить, избить… Во всю последующую жизнь он так и не вспомнил, что чувствовал тогда. Он был оглушен, как под роялем сестры Вильмы, когда она играла позднего Бетховена. Но аккорд, оглушивший его ныне, был еще мощнее. При этом он все делал правильно: спрашивал редких прохожих о нужной ему улице, переходил на другую сторону, сворачивал за угол, перебегал перекресток, пропустив мчавшийся экипаж или конку.