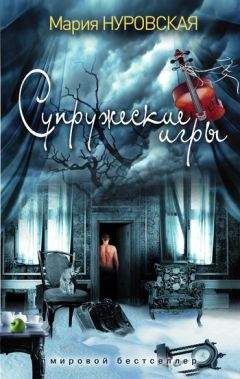Вместе с Маской исчез из нашей камеры и телевизор. Одно движение руки – всего лишь вынутый из розетки шнур – отрезало меня от того, что происходило за стенами нашего заведения. Разумеется, я могла бы вступать в контакт с тем миром, хоть изредка заглядывая в соседнюю камеру, где у одной из заключенных был цветной телевизор, или, в конце концов, читая газеты, которые хоть и с большим опозданием, но попадали в нашу библиотеку. Достаточно было только протянуть руку, однако я этого не делала. Моя изоляция постепенно становилась полной. Радио опасности не представляло, хоть и гремело весь день напролет в дежурке рядом с библиотекой. Передавали в основном музыку. Как только оно начинало что-то бубнить, его тут же переключали на другую станцию. Здесь радио – это был прежде всего шум – музыка, которую я не переносила. Классическая музыка, к сожалению, разделяла судьбу слова – ее сразу делали потише.
Что касается нашей русской, то Иза ошиблась только в одном. Лена жила во Львове, а не в Москве. Ее семья оказалась там в результате великого переселения народов, которое в свое время устроил Сталин. Она и правда была кандидатом юридических наук, то есть интеллигенткой, что в какой-то степени объясняло мгновенное понижение ее тюремного статуса. На долю яйцеголовых тут выпадала самая тяжкая жизнь. Мне действительно повезло. Ей, похоже, тоже, благодаря тому, что она опять попала в нашу камеру, где царили относительно человеческие отношения.
Во время наших посиделок за столом я выпытывала у Леночки о ситуации на Украине, что там у них с этой новой демократией.
– Какая там демократия! – махнула она рукой. – Глупее не придумаешь – вводить на этих пространствах то, что всегда было чуждо. Пускай Запад играет в демократию – у них перед глазами римский образец, у нас испокон века правили цари да бояре. И теперь таким царем стал Ельцин, который вбивает в голову этому дурню Клинтону, что он, Ельцин, демократ по убеждению. Для меня это обычный коммуняка, куда ему до царя. И у нас то же самое. Кравчук – бывший аппаратчик, таким и остался. Лозунги обновили, а методы прежние. Для народа ничегошеньки не изменилось, только жить стало еще тяжелее…
– Так и у нас так же, – сказала Агата. – Никогда еще не было столько горя…
– Было, – говорю я. – Только скрытого.
А Агата на это:
– Ну и хорошо. Чего глаза не видят, сердцу не жаль.
Леночка крутит головой.
– Пока люди не поверят, что может быть лучше, лучше не будет. Моя бабка постоянно на плите держит одну конфорку зажженной. Когда я ее спросила, зачем это, она отрезала – для экономии. На спичках. А когда я начала ей втолковывать, что это расточительность, она схватила карандаш, бумагу и подсчитала мне, что меньше заплатит за газ, потому что он дешев, чем за спички, которые недешевы, да еще и по карточкам. Ну и как при таком положении вещей может стать лучше? Лучше не будет, пока не появится кто-нибудь, кому люди поверят. Настоящий царь, а не такой, перекрашенный…
– Ну так и выведите себе царя в пробирке! – смеется Агата. – Возьмите какого-нибудь быка-производителя…
Я проснулась среди ночи от сильной головной боли. Со дня инсульта у меня часто бывают мигрени, мучает тошнота, а порой даже галлюцинации. Мне не хватало кислорода – в камере постоянно висел запах пота и непромытых тел, смешанный с идущим от параши смрадом. Просто невыносимо. Один из моих коллег-писателей написал как-то: «Попробуй– ка полюбить людей, когда, к примеру, едешь автобусом в июле и в этот автобус вместо пятидесяти человек, как положено, набивается сто пятьдесят…» Попробуй полюбить людей… А здесь это выглядело намного хуже. Я задыхалась, желудок подкатывал к горлу. И вдруг в моей идущей кругом голове забрезжила мысль: я живу!
Дарья, можешь мне сказать, почему ты убила своего мужа?
Я могла бы ей ответить – хотела убедиться, что любовь между мужчиной и женщиной не может существовать без секса. Беда тому, кто этого не поймет вовремя. Я вовремя не поняла, и меня убедили в этом наглядно… То августовское воскресенье… С утра мы собирались поехать в Казимеж над Вислой на вернисаж нашего хорошего приятеля, можно даже сказать, друга. В последний момент Эдвард заявил мне, что мы едем втроем. При этом у него было довольно глупое выражение лица.
– И кто третий? – спросила я.
– Катька напросилась ехать с нами, – ответил он, избегая моего взгляда. – Оказывается, она обожает живопись Тадеуша, а если уж она что-то обожает, то тут ничего не поможет…
– Прекрасно, – ответила я.
Катька ждала нас у подъезда. Я увидала ее в ярких лучах солнца. Надо признать, что из нее выросла обворожительная женщина. Целый водопад слегка вьющихся волос падал ей на спину и плечи. Цвет их не поддавался определению, он играл, изменяясь на солнце, был каштановым, чтоб через минуту набрать оттенок густо-медового. Она небрежно отбрасывала их рукой, открывая лицо с чуть выпуклым лбом, огромными карими глазами и чувственными, как бы припухшими губами. На ней были белая блузка с открытым воротом и обтягивающие джинсы, кожаный ремень венчала массивная пряжка. Она была в сандалетах на босу ногу.
В машине Катька устроилась сзади. Сперва чувствовалось, что она несколько обескуражена нашей встречей, но вскоре девушка освоилась с новой ситуацией. От моего внимания не укрылось, что эти двое болтают между собой как люди, давно находящиеся в тесных отношениях. Непосвященному могло показаться, что это я оказалась здесь случайно и я, а не она – пассажирка в этом экипаже.
На вернисаже разносили спиртное. Катька охотно тянулась за очередной рюмкой и под конец приема прилично напилась. И висла на руке Эдварда, нисколько не стесняясь моего присутствия. Стоя рядом с ними, я чувствовала, как между ними пробегают искры возбуждения, несмотря на то что Эдвард сбрасывал ее руки. На них стали обращать внимание. Даже не будь она известной актрисой, в глаза все равно бы бросилась ее вызывающая красота. Итак, он ее одергивал, но без гнева или нетерпения, в этом была даже некоторая нежность. В какой-то момент я потеряла их из виду. И пошла искать. Забрела на задний двор дома, в котором проходил вернисаж. Там стояла поросшая диким виноградом беседка, внутри царил полумрак. Я застыла на пороге. Они не замечали моего присутствия. Поскольку совокуплялись каким-то бесстыдным, животным способом.
У девки до бедер были спущены джинсы. Упираясь руками о край дивана с продранной обивкой, она изящно оттопыривала свой фигуристый задок. Эдвард же, придерживая ее за талию, двигал телом все энергичней. Сопровождалось все это ее стонами и вскрикиваниями:
– Ох! Ах!
Я стояла как парализованная. Мне бы надо было потихоньку уйти и никогда не признаваться, что я их видела вдвоем. Но в тот вечер я тоже не отказывала себе в напитках. Алкоголь, шумевший в моей голове, толкал меня к действию. Шагнув в беседку, я схватила первую подвернувшуюся рухлядь – стул без спинки – и треснула им Эдварда по спине. Он мгновенно отскочил от девушки, а она, выпрямившись, посмотрела в нашу сторону. Джинсы у нее спустились до самых щиколоток и сковывали движения. Я охаживала ее стулом, а она, сжавшись, руками прикрывала голову. В тот момент я была готова убить ее.
Эдвард пытался остановить меня:
– С ума сошла! Что ты творишь?!
– А ты что творишь?! – орала я. – Подлец, потаскун! Ты трахнул бы свою собственную дочь, если б она у тебя была!
Наконец ему удалось справиться со мной. Он крепко обхватил меня руками, так, что я не могла пошевельнуться. Я пыталась стукнуть его головой, но он успешно уклонялся от моих ударов. Все-таки он пострадал в этой возне – из рассеченной брови у него капала кровь. Но меня это не отрезвило, в тот момент я действительно жаждала крови. Мне хотелось уничтожить их обоих, а заодно и себя.
– Успокойся, Дарья, – повторял вдруг совсем пришедший в себя мой муж.
– Пусти меня, бугай распущенный! Свинья! Презираю тебя! И эту твою лолитку!
Катька подтянула джинсы, застегнула молнию и принялась поправлять прическу. Ее движения были необыкновенно точными. Выходя из беседки, она обернулась.
– Бедный ты, бедный, – услышала я ее спокойный голос. – Не думала, что все так плохо.
Сквозь сон я слышала какой-то звук. Мне чудилось, будто я очутилась в сарае, полном животных, и слышу постукивание их копыт. Звук повторился, он шел снизу с нар, где спала Аферистка номер два. Я спустилась со своих нар и наклонилась над ней. Казалось, она спит. Я уже хотела было забраться обратно наверх, но вдруг она протяжно застонала.
Повскакивали остальные сокамерницы, сомнений быть не могло – начались роды. В камере все пришло в движение. Кто жал на звонок, пытаясь вызвать надзирательницу, кто дубасил миской в дверь. Было темно – фонарь за окном опять не горел. Роженица призывала на помощь мать и кляла мужа. Что его нет здесь. Что она тут одна и, наверное, умрет.