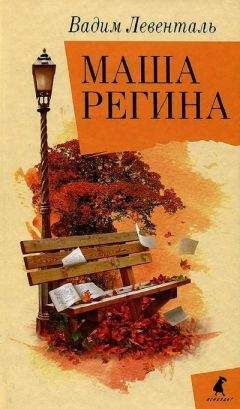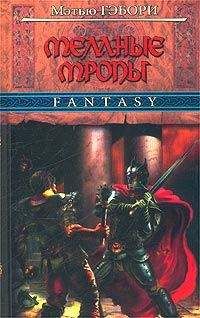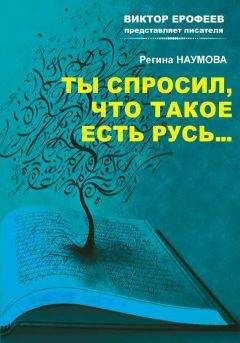Наконец ей стало ясно, что поскольку причиной возникающего эффекта не могут быть здания, детали пейзажа или геометрия пространства (мир не имеет по отношению к нам намерений — сказал бы А. А., туда-сюда махнув сигаретой, и опять Маша постеснялась бы спросить, откуда цитата), то, значит, происходящее происходит только внутри нее самой: каждый раз, когда сердце ее сводит сладкая судорога — это поднимается из могилы памяти мертвая Маша (Маша-одиннадцатиклассница, Маша-первокурсница — это не могилы, а улицы на кладбище) и испытывает сладострастное счастье от мимолетной, эфемерной — какой-никакой, но все-таки жизни. В одну из прогулок, на Литейном, Маша зашла пообедать, вспомнила, какое кафе было через дорогу (ныне вместо кофе — сосиски: продуктовый магазин), и вдруг как будто собственными глазами увидела — с нее, с Маши, свисают гроздьями мертвецы, цепляются за ее полные крови плечи, руки, груди, бока, шею; хватка каждого, как плоскогубцы, и у каждого одна надежда — пожить еще хоть секунду. В панике Маша, пробормотав заказ, стала набирать Петера (он звонил вчера, но не было настроения с ним разговаривать, а теперь это казалось необходимым), но — призраки обретают особую власть над человеком именно в тот момент, когда он скашивает глаз, чтобы поймать их в поле зрения, потому что это они готовы к атаке, а не наоборот, — вместо Петера она набрала А. А.
У него еще были лекции, но Маша поймала его через два часа на углу Пестеля и Гагаринской. А. А. не выглядел опустившимся человеком — как можно было бы подумать про того, кто, встретив старинную любовницу, тут же тащит ее в рюмочную, — напротив, два по сто он заказывал так, будто читал широко известные стихи, глаза его смотрели увесисто и спокойно, кисть недвижно возлежала рядом с пепельницей и иногда, как лебедь с воды, взлетала ко рту. Первую неловкость залили пятьюдесятью граммами, и вопрос, как и о чем говорить с человеком, про которого ты, оказывается, ничего не знаешь (не хочешь знать!), отпал. Нет, старый А. А. узнавался — в естественном, как дыхание, цитировании (в ответ на Машину невинную похвальбу — берлинале, бешеный прокат «Save» — как сказал бы один римский император, не дай им превратить тебя в кинорежиссера, — но это еще ладно, Маша, кажется, поняла), в нежелании говорить о ерунде (ну работаю, рассказываю молодежи глупости всякие, ну семья, статеечки, что тут может быть; гляди-ка, какая старуха, просто дюреровская), в пытливом внимании к ее, Маши, рассказам (пусть она понимала, что это воспитание — сказать «всего лишь» у нее не повернулся бы язык) — и все же это была подмена, смысл которой Маша поняла только тогда, когда на очередное ее вопрошание о делах, А. А. ответил, что про него говорить не интересно как раз потому, что со мной все ясно.
Тогда Машу укололо только удивление, что раньше он такого никогда не сказал бы, но уже потом Маша обкатывала и обкатывала эти слова, как волна полирует гальку, и ей стало ясно, что А. А. умер не потому, что был как-то специально несчастен (хотя и впрямь в паре, впервые родившей в сорок, есть, чисто технически, механизм отложенной трагедии), а потому, что сценарий его жизни был дописан, залитован и сдан в печать, — это было, правда, не более чем омерзительно, и все-таки вполне достаточно.
Да, и надо признать, что Маша была воспитана хуже, чем А. А.: они взяли и вторые сто, потом перешли на Советские и взяли там еще, а Маша все продолжала рассказывать о себе (впрочем, ее надо простить — хотя бы потому, что у А. А. точно не было диктофона), но главное не это, главное — думая о себе, Маша вдруг обнаружила, что А. А. существует для нее теперь по тому же способу, что и Моховая, и перекрашенная дверь парадной, и вид на краешек Летнего с угла напротив Пантелеймоновской церкви, что сам по себе он просто человек, с которым ее ничто не связывает, даже общие воспоминания, потому что всё они помнят по-разному, и что, значит, А. А. для нее — такой же точно мертвец, которого она тащит с собой, как какое-нибудь беспозвоночное — выращенный из себя экзоскелет. Она почувствовала это так ясно, будто огромный А. А. и впрямь костлявой лапой цеплялся бы за ее лодыжку, и, почувствовав это, она рефлекторно — так, как дергают ногой, — стала спрашивать его о жене и ребенке.
А. А. долго тер сигарету о край пепельницы, обнажая прячущийся все глубже огонек: не знаю. Не знаю, зачем ты хочешь это знать, но если хочешь — пожалуйста: да, солнышко мое, я все помню, но это абсолютно все равно. С девчонками все в порядке. Маша смущенно забормотала, что она совсем не это имела в виду и я надеялась, что у тебя все по-новому, и чем быстрее она лопотала, тем труднее А. А. было разлепить как будто замерзающие губы — ладно, послушай, я же говорю, что это все равно, успокойся, — и, то ли отвечая на чуть слышную в последнем слове досаду, то ли просто по логике развития интонационного периода, Маша почти прокричала: я не волнуюсь! ты первый начал! И А. А. облегченно согласился: я вообще первый начал. Я родился первый.
После этого они минут пять молчали, потом заговорили о водке (потому что разные марки водки представляют собой незамутненную никакими эмоциями тему для разговора), потом А. А. сослался на завтрашнюю лекцию, которую надо готовить, и ушел к Невскому ловить троллейбус. Маша попрощалась с ним, уже зная, что прощается навсегда. Решение это казалось ей естественным (хотя спроси ее кто, если ее мертвецы — это те, кого она носит с собой, то почему избавляться надо от других людей, она, очевидно, не смогла бы ответить) и, как казалось, далось легко. И все-таки, когда вечером позвонил Петер, она после минуты ничего не значащего разговора нашла повод сорваться на него, разрыдаться и в ненависти бросить телефон в стену. (Кёнигин, — будет он говорить ей позже, — я же все понимаю, на что обижаться?)
А. А., таким образом, умер для Маши дважды. И когда это произошло во второй раз, под синим, как на иконах, небом, между медью сосновых стволов — инфаркт: сказал ей сломленный и все же спокойный голос, — она, отвывшись, занемев, высохнув, вымыла лицо, напилась воды, подняла лицо над раковиной, посмотрела в зеркало и с ненавистью ткнула своему отражению средний палец, — а потом как ни в чем не бывало вышла на свежий воздух и продолжила съемку. Вся процедура заняла не больше получаса; ни на какие похороны она, чтобы не терять драгоценные съемочные дни, решила не ехать.
Русский язык — развлечение не хуже комнаты смеха: говоря «ни на какие похороны», он, язык, не соврал — на Смоленское кладбище (ибо там — не в честь не сдержавшего слова поэта, как подумала бы иная поклонница, а просто потому, что рядом с родителями, — желал быть похороненным А. А.) Маша не поедет, — и все же соврал, потому что Маша на похороны-таки поедет, только на другие.
Запрыгнув, едва не опоздав, в вагон с целиком выкупленным для нее купе (к тридцати годам желание быть ближе к народу обычно проходит и хочется уединения), открыв бутылку коньяка (потому что другого способа заснуть нет), с каменным от напряжения — не расплакаться — лицом, Маша будет полночи пить, разумеется, напьется, и в пьяном одиноком бреду ей причудится, что смерть отца, приключившаяся через четыре дня после инфаркта А. А., получилась не сама по себе, а по какому-то бессовестному и неподсудному, как безличное предложение, умыслу: только она решила отцепить от себя одного из мертвецов, как другой стократ требовательнее хватает ее за горло. Конечно, не в том дело, что нельзя же не поехать на похороны собственного отца (конченого алкоголика — ну и что), а в том, что всё откладываемая на потом любовь к папе с его смертью неизбежно выпадает в осадок чистейшим веществом неизбывной вины.
Маша спит, у проходящих мимо ее купе раздуваются ноздри, в покачивающемся окне сменяются, как во взбесившемся диафильме, одна другой темнее тени излысившихся кустов и нахохлившихся елей, то вдруг все бледнеет и замирает и тяжело, медленно дышит сизая ночная вода — Маша спит без сновидений, не зря же она пила коньяк.
Утром она спрыгивает в вязкую мазутно-дождевую кашу, ноги мгновенно схватывает ледяная вода, и, трясясь в холодном автобусе, в котором пахнет так, что кружится голова, особенно на голодный желудок, Маша жалеет, что оставила в вагоне коньяк. По мере удаления от вокзала автобус наполняется стекающимися к рынку старухами — в руках у них ведра с яблоками, загадочные сумки, запахи еды и смерти, — они оглядывают Машу с медленным, как будто заранее удовлетворенным любопытством, и что-то бормочут друг другу, маскируя свист и скрежет речи за естественным шумом мотора. Когда Маша ступает на бетонную плиту остановки и автобус уезжает, она как будто оказывается в пространстве абсолютного беззвучия, и это оглушает ее.
Из-за забора углового дома ее взгляд ловят глубоко вдавленные в голову глаза — и хотя Маша прекрасно знает старуху, живущую в этом доме с начала времен, и это именно она звонила позавчера в «Сосны», чтобы сообщить, что батя помер и надо ехать скорей, Маша тем не менее не может вспомнить, как ее зовут, а старуха уже скрипит ржавой калиткой и семенит, держа мясистой ладонью юбку, к ней, чтобы придирчиво оглядеть, взять за предплечье — вот оно как, Машка, бывает, бог дал бог взял, ну пойдем, — и пока они идут к дому, старуха запутанно и от смущения немного грубовато пытается Маше что-то объяснить, но Маша не понимает, над чем тут подумать надо, что делать, и почему дом пустой сейчас, нету матери там, у бабы Люси она.