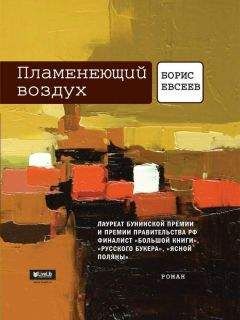Ознакомительная версия.
Государыня еще раз — словно небольшую, но драгоценную литографию — оглядела начертания слов и перевернула лист.
Действующие лица оперы, собственноручно в столбец переписанные, были таковы:
Амелфа Тимофеевна, княгиня вдовствующая, мать Василия Боеслаевича. Василий Боеслаевич, богатырь.
Потанюшка Новгородец да Фома Ременников, богатыри, друзья Боеслаевича.
Чудин.
Сатко.
Рагуил Добрынин, все трое посадники новгородские.
Умила, дочь Рагуила Добрынина и возлюбленная Василия Боеслаевича.
Здесь государыня едва заметно скривилась и читать перестала. Вспомнила о тайном, еще никому не известном возлюбленном. О недавно примеченном ею в толпе придворных Платоше Зубове, красавце. Так некстати Платоша вчера с Эрмитажного вечера ускользнул. А ну как к такой же вот Умиле?
Воспоминание растерзало вмиг. Полными слез, внезапно лишившимися живого блеску кукольными глазами глядела государыня на исписанный лист бумаги.
«Ах, Катеринхен, душа моя! Что етти подлецы с тобою делают! О мейн готт!»
Однако продолжались переживания недолго. Длительная привычка к сокрытию чувств, к уплотнению времени, к повсякчасному царствованию — быстро взяла свое. Государыня императрица слезу смахнула, приосанилась, даже улыбнулась.
«Платоше Зубову, жеребцу стоялому, от меня не скрыться. Не посмеет, не пренебрежет. Но етто в будущем времени. А теперь...»
Теперь следовало возвратиться к маловажному, но необходимому: к опере. Государыня снова глянула в лист, но уже в другой, выхваченный из середины:
«Василий Боеслаевич тут же действует, с усатыми и бородатыми, и прибьет всех; чернь взволнуется и сделается драка, Василий с помощью Фомы и Потанюшки всех прогонит с феатра...»
«Нет, положительно нельзя оставлять оперу как есть. Неизящно и без всякой поучительности...»
— Куда же етто господин Храповицкий запропал? — вскрикнула императрица не слишком громко.
Грубиян Попов, однако, и сквозь перегородки матушку услыхал.
Тут же, без промедленья, был явлен пред матушкины очи Александр Васильевич Храповицкий, статс-секретарь.
— Слышь, Александр Васильич? А глянь-ка ты в етти листы. Стихоплетства твово мне как будто здесь не хватает. А уж все протчее есть. Так ты стишата в оперу сию и впиши. Да только в те места впиши, где они для песен надобны. А как впишешь — кому из наших музыкальную часть поручи. Да не медли ты по своему обыкновенью! Через месяц-другой опере — готовой быть… Только дураку италианскому, только господину Сарти не отдавай. Он нам таких Боеслаевичей настрогает — век не расхлебаешься. Ну иди, иди. Да встретишь в коридорах Безбородку — не задирайся с ним. Ты человек маленький, он человек великий, — здесь матушка государыня изволила улыбнуться, — так дай ты ему еще годок-другой близ фрейлин моих козлом безнадзорным попрыгать... Теперь иди уж совсем.
Через три дни пакет с матушкиной «оперской сказкой» и стишатами статс-Храповицкого попал к музыканту не весьма известному, зато только что из Европ прибывшему: к Евстигнею Фомину.
Глава двадцать шестая В Эрмитаже
Создан Эрмитаж был по случаю.
Еще в году 1776-м, исследуя кладовые Зимнего дворца, матушка государыня увидала в одной из них преогромную картину. На картине было изображено снятие Иисуса с креста. После того как преставилась Елизавета Петровна, сия картина из комнаты умершей царицы в кладовую перенесена и была.
Здесь государыне пришла на ум мысль: а не завести ль у себя целую комнату, а лучше того — целый дворец, наполненный картинами и другими примечательными редкостями?
Через несколько дней явилось и повеление: лучшие живописные картины, находящиеся во всех иных дворцах, свозить в Эрмитаж.
Строго было указано министрам и агентам при чужеземных дворах: покупать достойные и обширные размером картины, да слать бы их со всяческой бережливостью сюда, в Питер-Бурх...
За исполнение взялись ревностно, истово.
Вскоре в Россию перебралось собрание картин графа Брюля и собрание графа Будуэна, також и собрание принца Конде. Вслед за ними — собрание берлинского купца Гоцковского и людей других званий.
Сюда же, в Эрмитаж, перевезли коллекцию античных мраморов из Рима. Приобретены были мраморы и у Ивана Ивановича, графа Шувалова. А у герцога Орлеанского — у того приторговали миленькую коллекцию камей и античных гемм.
Свозились и лежали россыпью: кубки, монеты, старинное оружие. Но особой матушкиной привязанностью сделались камеи.
Слепки с оных государыня снимала сама.
Тут же — в одной из комнат Эрмитажа — приказано было соорудить горн. Используя сей горн, императрица, при помощи одного лишь химика Кенига, да еще медальера Лебрехта, лучшие камеи копировала своеручно.
Делалось те копии для умножения красоты и «для разбития мыслей».
А мысли матушку при вступлении в Эрмитаж посещали всякие.
В том числе об увеселениях и об отдыхе после дел и занятий государственных.
Дабы навести в увеселениях строгий порядок, дать неизменяемый строй — были они распределены по родам и дням.
В понедельник — французская комедия.
Во вторник — ото всего увиденного и услышанного отдых.
По средам — комедия русская.
По четвергам — французская опера.
Кроме того, четверг был особым днем: днем маскерадным.
По пятницам — малые приемы.
По субботам — большие приемы.
Ну а в воскресенье, завершая неделю, — бал!
Более всего — едва ли не до смерти — любила Государыня езжать в маскерады. Отправлялась в путь и садилась в ложу — замаскированная. Для пущей скрытности использовалась, кроме одежек, чужая карета. Однако полицейская стража — ах, проныры! — тотчас государыню признавала: по росту и походке, также и по характерному окружению.
Еще императрица любила контрасты.
— Если уж маски, так должны етти маски не в уголку томиться — должны плясать вприсядку!
Соединение русской лихости с европейской изысканностью весьма императрицу забавляло. Особенно тешило то, что пляшут вприсядку и графья, и князья, и министры, да и другие чины немалые. Так, верно! В пляске все уравниваются, все — едины. Все — один верноподданный народ!
А для более умеренного отдыха были матушкой выдуманы Эрмитажные собрания: большие, малые и средние.
На «большие» Эрмитажные собрания приглашались: первые особы двора, иностранные посланники, послы, министры.
На «средние» были обязаны являться только лица, пользовавшиеся особым благоволением императрицы.
Ну а на «малые» приглашались одни только близкие к государыне лица. На сих «малых» — гостям было дано предписание: от этикета отказаться вовсе.
Того мало! Самою императрицей были предписаны неукоснительные правила таких «малых» собраний. Правила выставлялись в резной деревянной рамке под занавесочками, при входе в залу отдыха.
Счетом таких правил было ровно десять:
1. Оставлять все чины вне дверей, равномерно как и шляпы, а наипаче шпаги. (Шляпы и шпаги оставлялись. Чины — никогда.)
2. Местничество и спесь оставлять у дверей также. (Спесь прятали. А местничество — его-то куда спрячешь? Не в карман ведь.)
3. Быть веселым, однако ж ничего не портить, не ломать, не грызть. (И портили, и ломали. А фрейлины, так те по временам и грызли.)
4. Садиться, стоять, ходить, как заблагорассудится, не смотря ни на кого. (На матушку-государыню, понятное дело, смотрели; ходили вольно, но все ж таки с оглядкой.)
5. Говорить умеренно и не слишком громко, дабы у прочих головы не болели. (Головы болели у многих, однако ж не от громкого крику: чуялся в дозволяемой свободе подвох, и ухо надо было держать востро! От такого напряженного внимания голову по временам и ломило.)
6. Спорить без сердца и горячности. (Старались вовсю, но горячности избежать мало когда удавалось.)
7. Не вздыхать и не зевать. (От зевков освобождаться научились. А вздохам-то как не быть? Вздыхали, и не раз, старые елизаветинцы, страдая от ненужных вольностей, дамы вздыхали о кавалерах, чувствительные кавалеры — о дамах.)
8. Во всяких затеях другим не препятствовать. (Другим и не препятствовали: другие пускай затевают что хотят! Остерегали от излишних затей себя.)
9. Кушать сладко и вкусно, а пить с умеренностью, дабы всякий мог найти свои ноги для выходу из дверей. (Ноги находились не всегда, заплетались, подобно языку. Однако ж веселость сохранялась и при этом.)
10. Сору из избы не выносить. А что войдет в одно ухо, то бы вышло в другое прежде, нежели выступить кому из дверей. А если кто против вышеписанного проступился, то, по доказательству двух свидетелей, должен выпить стакан холодной воды (не исключая дам) и прочесть страничку «Телемахиды». А кто против трех статей провинится, тот повинен выучить шесть строк из «Телемахиды» наизусть. А если кто против десяти проступится, того более не впускать.
Ознакомительная версия.