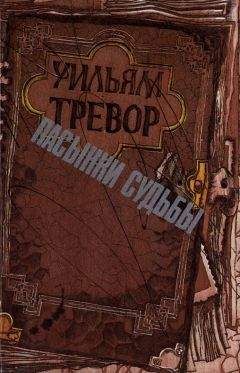— Многим так кажется.
— Почему же он тогда не женится?
— Мистер Дерензи считает себя не вправе нарушать заведенный порядок вещей.
Тетя Фицюстас встала и вышла из гостиной с заклеенным конвертом в руке, чтобы мистер О’Мара забрал письмо, когда утром принесет газеты. Имельда подошла к бюро и замерла, прислушиваясь к удаляющимся шагам тети Фицюстас. Слышно было, как она что-то сказала тете Пэнси, а затем хлопнула кухонная дверь. Тогда Имельда выдвинула две маленькие подпорки, которые только что вложила тетя Фицюстас, и опустила на них тяжелую откидную доску красного дерева. В бюро было множество всевозможных ящичков, горизонтальных и вертикальных, миниатюрных резных колонн и створчатых чернильниц. Были и потайные ящики: Имельда сама слышала, как тетя Фицюстас просила тетю Пэнси открыть ей ключом тот, что справа. Имельда стояла рядом, но подсмотреть, как открывается замок, ей не удалось.
Один ящик был забит счетами, в другом лежали образцы ткацких орнаментов. Она прочла несколько писем: одно из магазина в Корке, где говорилось, что пальто получены; другое от мистера Лэнигана — благодарность за гостеприимство и за варенье, доставившее всей его семье огромное удовольствие. Однако больше всего ее заинтересовало письмо, отправленное много лет назад и подписанное «А. М. Халлиуэлл» — Имельда знала, кто это, потому что мать часто упоминала это имя. «То, что я узнала всего неделю назад, — неслыханно, — говорилось в письме. — Мое имя Вам ничего не скажет, но я надеюсь, вы подтвердите, что все это вымысел. Если же это правда, мой долг сказать Вам, что этому ребенку нельзя появляться на свет. Своим существованием он лишь продлит трагедию, сделавшую его отца таким, какой он есть. В жизни своей не слыхала ничего более чудовищного».
3
Тетя Пэнси вязала шерстяные шлемы и отсылала их в Красный Крест. Тетя Фицюстас рассказывала, что мистер Лэниган выдал полиции немецких шпионов, неких Винкельманов, владельцев перчаточной фабрики. Отец Килгаррифф читал вслух «Айриш таймс» о капитуляции Франции. А Имельда продолжала подслушивать.
— Я им просто восхищаюсь, — говорила мать. — Каждый вздох дается ему с трудом, но он никогда не жалуется.
— Такой уж он человек, — сказала тетя Фицюстас. — Я его давно знаю. Прежде чем он поселился здесь, кто-то написал мне, что его лишили духовного сана, и, по правде сказать, я нисколько не удивилась. Навлечь на себя гнев влиятельного человека, подружившись с его дочерью, — вполне в его духе. Я ведь помню его еще мальчишкой: он часто приходил сюда из Лоха подработать в саду. Он не мог видеть чужие страдания, даже страдания животного. Вполне естественно, что после всего, что с ним стряслось, он вернулся в Килни.
— Но почему он считает, что мне следовало возвратиться в Англию? Впрочем, по-моему, ему кажется, что это и сейчас еще сделать не поздно.
— Он думает, что в Англии вам жилось бы лучше.
— А что думаете вы?
Чиркнула о коробок спичка, а затем послышался глубокий вздох. Имельда представила себе, как, затянувшись, тетка с наслаждением выпустила дым изо рта и ноздрей и жилистой рукой погладила по голове собаку — скорее всего, слепого сеттера, своего любимца.
— Я не могу с ним не согласиться, дорогая, — раздался наконец голос старухи. — После того несчастья, которое на нас обрушилось, вы с Имельдой — единственное светлое пятно в нашей жизни, но, скажу откровенно, я того же мнения, что и отец Килгаррифф.
— Но ведь он же вернется, как вы не понимаете. Когда-нибудь Вилли обязательно вернется.
Услышав эти слова, Имельда вновь вообразила, как к магазину Дрисколла подъезжает автобус и из него выходит отец, на этот раз в светлом — под стать волосам — костюме. «В тропических странах, — рассказывала на уроке географии сестра Малкахи, — монахини ходят в белом». «Пунтаренас — приморский город в Коста-Рике, — вычитала Имельда в дневнике матери. — Ирландский банк переводит ему туда деньги, а он уже куда-то уехал». Имельда представляла себе приморскую аллею, как в Йоле, и художника, рисовавшего на песке. «Джейз, по смотри-ка на Квинтон!» — хихикала на уроках Тереза Ши всякий раз, когда Имельда отвлекалась. Однако Имельда ничего не могла с собой поделать: все чаще и чаще — будь то в классе или на прогулке, воскресными вечерами, когда по радио передавали гимны, или же в постели — она погружалась в мир грез. Предаваться фантазиям стало для нее такой же привычкой, как читать дневники матери или подслушивать.
— Что ты здесь делаешь, Имельда? — удивилась, обнаружив ее в кустах, — тетя Пэнси, которая шла с мистером Дерензи по аллее, отправляясь на традиционную воскресную прогулку. В это время мистер Дерензи рассказывал ей про мельницу. Что-то совершенно неинтересное.
Дневники матери хранились в шкафу у нее в спальне — кипа блокнотов, точно таких же, какими пользовалась в качестве черновиков сама Имельда. Записи карандашом на грубой линованной бумаге от времени стерлись, и разобрать их было почти невозможно: «Если бы не отец Килгаррифф, я никогда бы не узнала про битву при Йеллоу-Форде. Теперь, правда, он об этом жалеет. Распорядившись продолжать войну в Ирландии до тех пор, пока это будет выгодно Англии, жестокая дальновидная Елизавета превратила поражение сэра Генри Бейджнела в победу. Об этом же в красной гостиной, за столом, заваленным учебниками, рассказывал в свое время отец Килгаррифф и тебе. «Очередная ирландская небылица» — наверное, казалось тебе тогда, а возможно, если ты вообще помнишь, о чем идет речь, кажется и теперь. Я же все, что происходит вокруг меня, в том числе и твое изгнание, воспринимаю как вечный бой. Но и будь ты со мной, разве могли бы мы сделать вид, что ничего не произошло? Даже если бы мы отстроили Килни, на наших детях все равно лежала бы тень смерти и разрушения, правда? Эта битва не прекратится никогда».
Имельда аккуратно положила блокнот на место. Почему-то сейчас ей вспомнилась строка из ее любимого стихотворения, и, повторяя ее, она побежала через поле к реке. «Слышу, как шепчется берег с тихой озерной волною…» Она уже помнила наизусть все стихотворение. Мисс Гарви сказала, что стихи Имельда читает лучше всех, а когда Тереза Ши захихикала, учительница выгнала ее из класса. «…Этот шепот со мною»[59], — произнесла вслух Имельда, опустившись среди маргариток на землю, у самой воды. Интересно, что испытала святая Имельда, когда к ней во время молитвы спустился с небес ангел? Как-то она спросила об этом сестру Роуан, но та ответила, что простому смертному знать этого не дано. Но Имельде все равно было любопытно.
Перепрыгивая с камня на камень, она перебралась на другой берег, некоторое время шла вдоль реки, а потом вернулась на мощенный булыжником дворик, зажатый между руинами с одной стороны и садовым крылом — с другой. По направлению к разрушенному особняку шли, переваливаясь, два гуся, и Имельда последовала за ними. Предупредив их, что среди камней и сорняков поживиться будет нечем, и загнав их обратно, во двор, она побежала на кухню.
Мать сердилась:
— Это ужасно, Имельда. Подслушивать стыдно. Как ты могла?
— Я подслушиваю от нечего делать.
— Если тебе нечего делать, погуляй с собаками. Ты же часто ходишь гулять.
— Я хожу на мельницу. Или к реке.
— Вот и прекрасно.
— Иногда мне это надоедает.
— Обещай мне, Имельда, что ты никогда, слышишь, никогда не станешь больше подслушивать.
Имельда обещала — обещать ведь легко. Разговор происходил в столовой, за закрытой дверью, потому что на кухне была Филомена, а в гостиной — тетя Пэнси и тетя Фицюстас.
— Тебе хорошо в школе? Скажи мне, Имельда. С Терезы Ши спрос невелик, но ведь все остальные с тобой ласковы, правда? Ты же монахиням нравишься?
Имельда не ответила. Она не сводила глаз с сидевшей на искусственных фруктах мухи. Как она, бедная, будет разочарована, обнаружив, что в этих фруктах нет сока. Да, подтвердила она, в школе с ней ласковы.
— И в Килни тоже. Тетя Пэнси души в тебе не чает. И тетя Фицюстас, и Филомена, и отец Килгаррифф. И мистер Дерензи, когда он приходит.
Муха взлетела над вазой с фруктами и, покружившись над стоявшей на комоде лампой, опустилась на пробку графина, где уже сидела другая муха. На цветном стекле пробки белела глубокая уродливая трещина.
— Да, — сказала Имельда.
— Скажи, ты бы уехала из Килни, Имельда?
Обе мухи потеряли к графину интерес. Одна исчезла под потолком, а другая поползла по дверце комода. Имельде вдруг показалось, что зеленая гондола едва заметно вздрогнула, словно вот-вот отплывет. Однако на другой картине люди, стоявшие у входа в церковь, оставались неподвижными. Стараясь не смотреть матери в глаза, Имельда спросила:
— Он действительно вернется?
— Да, когда-нибудь вернется.