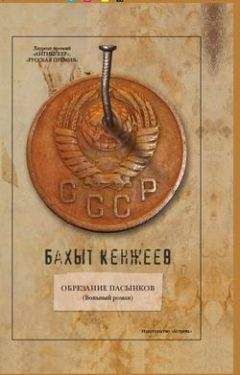Ты спросишь: а почему я, не самый ограниченный человек в мире, по поводу и без повода сбиваюсь на обличения режима, интересного только историкам?
Хочешь ответ?
Я дам его тебе, только подумаю немного. И помогу себе из фляжки ямайского рома. Лучший ром в мире – кубинский, но я не покупаю его никогда, чтобы не поддерживать кастровский режим.
В обширном дворе моего факультета располагалась переплетная мастерская для курсовых и дипломных работ. Но переплеты являлись простейшими, как инфузории, без тиснения. К тому же мастера неизменно знакомились с содержимым приносимого в переплет. Донесли бы в тайную полицию в случае крамолы. Правда, два-три лишних рубля (долларов десять по-нашему) купили бы их гробовое молчание.
Ты спрашиваешь, и я отвечу, но все же пока не готов.
Впрочем, одна мысль появилась: а почему нет? Если мир уже две тысячи лет очарован идеей Евангелия? Чем мы хуже? Может быть, мой народ и есть новый Христос, погибший на пыточной виселице ради процветания человечества?
В санатории сервируют на гарнир брокколи, спаржевую капусту, и цукини, недозрелый кабачок. Я, право, предпочел бы капусту обычную и кабачок обыкновенный, к сентябрю золотистому и прозрачному вызревавший на даче у моих друзей. Мы, предположим, размышляем о Монтене, а в пожухшей траве за кустами малины (одна-две ягодки обязательно оставались до самых холодов) дремлет гладкий растительный поросенок. Резали на ломтики толщиной в палец и обжаривали на чугунной сковороде в сливочном масле, не смущаясь повышенным содержанием холестерина.
И был праздник: дачная веранда с пыльными стеклами, благоухающая сухим смолистым деревом, бутылка крымского, тишайшие сумерки за окном. В сумерках бытия под оранжевым абажуром мы праздновали условное воскресение, и наши души, как мотыльки, бились о стекло, отделяющее нас от невидимого Господа. Большая смерть маячила рядом, но маленькую мы отгоняли, ласково глядя друг на друга. И это прошло.
Сок сегодня разбавлен, витамины особенно горьки. Я их, признаться, чаще складываю в тайную коробочку, чем принимаю перорально. Накопилось уже граммов сорок, должно быть.
Аэронавт Мещерский употреблял внутрь организма питьевой спирт с аэронавтом Ростопченко, соседом по каюте. Пить спирт – не самое простое занятие. Осушив стопку, следует задержать дыхание и постараться отключить вкус и обоняние – ненадолго, на те полторы-две секунды, которые необходимы для того, чтобы запить поглощенное стаканом холодной воды. Теплая не годится – вырвет. Спирт опьяняет быстрее и ярче, чем водка или, если уж на то пошло, другие крепкие напитки. Многим аэронавтам удается перед рейсом пронести два-три литра на борт дирижабля, а другие приобретают его у товарищей. Аэронавт Ростопченко горько жаловался на боцмана Перфильева. Тот, невзлюбив аэронавта бог знает за что, может быть, даже и за то, что он был рыж и любил посмеяться, придирался к Ростопченко, грубил ему на своем боцманском языке, грозил списать с корабля, обзывал хитрым хохлом. Не имея опыта службы на воздушном флоте, не берусь описать тесноты и духоты алюминиевой каюты на двух человек, габаритами и расположением, впрочем, сходной с купе международного вагона.
На дирижабле «Гинденбург» каждому богатому пассажиру отводилось отдельное помещение с кроватью и отдельной душевой кабиной. В корпусе дирижабля имелся ресторан с кухней и салон с карликовым роялем. В куполе цеппелина были оборудованы прогулочные балконы с панорамными окнами, а в нижней части корабля – смотровая комната. Ограничений было несколько. Первое из них – вес, поэтому вместо ванн предлагался душ и все, что можно, было сделано из алюминия. Второе и самое важное ограничение – запрет на курение, которое на «Гинденбурге», как, впрочем, и любом другом дирижабле, в буквальном смысле было угрозой для жизни. Все, кто находился на борту, включая пассажиров, перед посадкой были обязаны сдавать спички, зажигалки и прочие устройства, способные вызвать искру. Курить разрешалось только в специальной закрытой комнате. Все члены команды были обязаны носить антистатическую верхнюю одежду и обувь на изолирующей подошве. Подлетели к Нью-Йорку – ветер, приземлиться трудно. Следует развлечь притомившихся с дороги господ в котелках и дам в поблескивающих шелковых чулочках. Капитан подплывает по воздуху к смотровой площадке Empire State Building. Пипл в отпаде – и на борту, и на смотровой площадке. Отплывают, не страшась иссиня-черных царственных облаков, в Джерси-сити, подходят к посадочной мачте. Взрыв, огонь, пламя. Шестьдесят два человека выжили, остальные, прости, погибли. Говорят, диверсия.
Понимаешь ли, у немцев гелия не имелось в достаточном количестве, и купить было негде – стратегический матерьял, к продаже гитлеровскому режиму воспрещенный. А корабль «Анастас Микоян», где служили аэронавты Мещерский и Ростопченко, напротив, был гелием наполнен, взорваться никак не мог и возил запасные элементы к автомобилям «лада» в Канаду, снисходительно извини незамысловатую рифму. Швартовка в Сент-Джонсе предусматривалась. Спуск по витой алюминиевой лесенке внутри причальной мачты, упоминавшийся выход в город группами по трое, непременный визит в лавочку «У Яши», закупка джинсов, видеомагнитофонов и переносных магнитол.
Выгода предприятия заключалась в следующем: джинсы Wrangler обходились в сколько-то долларов. Продавались в Москве за большое количество рублей, на которые приобретался ящик электродрелей. Полет в Царство Польское с запчастями для тракторов «Беларусь», продажа электродрелей за злотые, покупка на вырученные деньги болгарских овчинных тулупов. Доставка тулупов в Москву, скромная взятка таможеннику. Чистая выручка – минус расходы на покупку первоначально истраченных долларов на черном рынке – захватывала воображение. Сорок тысяч поездок в московском метро, двадцать тонн картофеля или десять тонн печеного хлеба из муки грубого помола с примесью ржи – ты будешь смеяться, сынок, но он стоил дешевле в тогдашней Москве, чем хлеб из чистой белой муки.
Кто спорит, не худо служить аэронавтом на дирижабле Аэрофлота, летающем в заграничные рейсы. Что не мешало аэронавтам Мещерскому и Ростопченко на все лады поносить боцмана Перфильева, как известно, беспричинно притеснявшего аэронавта Ростопченко и угрожавшего закрыть ему выездную визу.
Это я, как ты догадываешься, пытаюсь пересказать его историю. Аэронавт Мещерский неважно владеет словом: сбивается, путается, краснеет.
Незаметно наступил промокший и неосвещенный вечер. Пахнет черемухой, заведомо не произрастающей здесь. Я пойду спать. Ром виноват. Виновата капель. Ты бы иногда звонил мне по скайпу? Кажется, это гениальное изобретение. А? Или хотя бы писал?
Тебя, должно быть, интересуют мои бытовые условия, сынок. Охотно удовлетворю твое здоровое юношеское любопытство. Комната у меня собственная, прямоугольная, небольшая, но чистенькая, с одним окном; стены выкрашены белой клеевой краской. В России мне виделось бы в этом нечто госпитальное, из жизни больных или медицинских врачей, но за множество лет и зим за океаном я свыкся с этим местным обычаем. Ведь даже гулкие стены из сухой штукатурки в нашей монреальской квартире, ты помнишь, так и остались снеговыми, матовыми, стерильными: намерение наклеить тисненые обои так и не воплотилось в бренную жизнь. Не беда – русский человек широк и благородно осознает, что всякое суверенное государство имеет право на свои дела давно минувших дней и преданья старины глубокой. При комнатке, как на дирижабле «Гинденбург», предусмотрен совмещенный душ и туалет. Заботливая администрация обеспечивает незамысловатым, но приятно пахнущим мылом, шампунем, раз в месяц – новой зубной щеткой. Односпальной кроватью с чуть поцарапанными деревянными спинками и доброкачественным пружинным матрасом.
(Было у злополучного моего отца – твоего деда – занятие: каждые два-три года матрас супружеской постели перетягивать. Он во двор выносился, под липы, вспарывалась обивка, разрезались все веревочки, которыми пружины связывались в единое целое. Затем вся система восстанавливалась. А как еще? За два-три года одна из пружин, освободившись от бечевки, обязательно начинала выпирать, вонзаясь в бока мятущегося мужа и дремлющей жены его. Работа была веселая, и полезный исход ее – очевиден.)
На стене у изголовья укреплено бесхитростное бра, лампочка, забранная матовым стеклом. У письменного стола – торшер, мечта шестидесятника. Верхнего света не предусмотрено; тебя, канадца, это не удивит, а я слегка жалею, ибо привычка – вторая натура, и в комнате без верхнего света мне недостает уюта. Понимаешь ли ты, как я горжусь своей неприхотливостью? Причина ясна: я сравниваю все физические вещи жизни и повороты судьбы с их подобиями в покойном Советском Союзе. И, как и следовало ожидать, оказываюсь в гарантированном выигрыше!