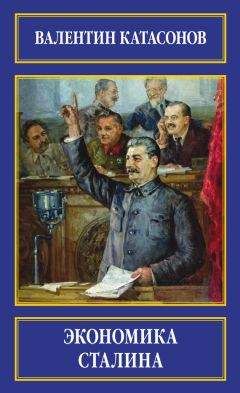Ознакомительная версия.
— Из Казахстана. Станция Чарск.
— Вот туда и выписывай, — распорядился комиссар штабному писарю, и подмахнул распоряжение на выдачу всей заработанной Аугустом в трудармии суммы денег. «Власть справедлива!», — напомнил он Бауэру на прощанье. Аугуст промолчал, а Троцкер Абрашка, который выходил из конторы вслед за ним ответил на это: «Гитлер капут!». Вместо того чтобы засмеяться, конторские нахмурились почему-то, и Абрам на всякий случай выметнулся наружу вперед Аугуста.
Аугуст вышел из конторы с какими-то справками, маршрутным предписанием и толстой пачкой денежных купюр в кармане: вот сколько деревьев он сокрушил за три года войны! И это — после всех построенных им танков, самолетов и эсминцев! Правда, о покупательной способности этой пачки Аугуст не имел ни малейшего представления: может еще на два истребителя хватит, а может и чистых штанов на эти деньги не купить: черт его знает что сейчас на послевоенной воле творится…
А за дверями конторы между тем вовсю уже бушевали коммерческие отношения, тон которым задавали блатные: они пытались втянуть чудесным образом разбогатевших вдруг трудармейских «буратинов» в картежные игры, или всучить им какую-нибудь рвань в качестве «дембельского шика». «Ты че, баклан, в этих говнодавах домой ехать задумал, что ли? Охерел, козлина? Да тебя в них ни одна баба и на порог не пустит! На, глянь: вот это шкерики; улыбка удачи, а не шкерики! Гони десятку!». А рядом другой деловой разговор на подобную тему: «Ты чё морщишься, хрен штопаный, чё ты морду-та варотишь? Гаани четвертной, я скаазал, быстра я скаазал, а то вааще зааберу щас нахер все тваё бабло — за аскарбление тавара!»…
Аугуст, углубленный в изучение полученных в конторе документов, тоже оказался вдруг по неосторожности в зоне блатной активности; урки обступили его и одобрительно хлопали его по плечам и карманам. Тут бы он и расстался, наверное, с упавшими ему с неба денежками, если бы не бригадир Буглаев.
— Эй, Януарий, греби-ка сюда ко мне, — крикнул он Аугусту, — дело есть!
— Отвали! — отозвались блатные, — не видишь — немец делом занят?
— Сгинь под лавку, рвань уголовная, а то глаз в жопу затолкаю: будешь до самого коммунизма за тухлым пищеварением наблюдать, — презрительно рявкнул Буглаев, — Август, иди сюда, я сказал…
Блатные стали интенсивно сплевывать, переглядываясь; лесорубы, следуя рефлексу, начали привычно стягиваться вокруг бригадира. Видя это, блатные нехотя отступили, шипя пустыми угрозами, как проткнутые шины.
— Ты чего ж это бдительность потерял? — пожурил Аугуста Буглаев, — деньги голову вскружили? — засмеялся он и пушечно жахнул Аугуста ладонью по горбу: — А то с пустыми карманами домой заявишься, всех разочаруешь…
— Нету у меня никакого дома, — буркнул Аугуст в ответ.
— Ну, был бы человек, а дом всегда найдется, — философски изрек Буглаев, — Тебя куда отписали?
— В Казахстан, откуда привезли. В Чарск.
— О, отлично! До Омска вместе поедем. А мне до Свердловска. Ну, согласен? И тебе со мной безопасней будет, и мне с тобой — веселей! Так?
Август сильно удивился. У него с бригадиром были отношения неплохие, даже хорошие, но вовсе не настолько дружеские; вокруг Буглаева вились другие угодники, составлявшие его бригадирскую свиту — Аугуст к тем свойским орбитам не принадлежал. Бригадир просто уважал его за молчаливую исполнительность и за постоянное перевыполнение дневных норм; бригадир раскидывал иногда эти перевыполненные Аугустом и другими ребятами покрепче пункты на более слабых членов бригады, а Аугуст никогда не возражал. Бригадир говорил о нем шутливо-почтительно: «Наш железный Януарий!», и это звучало высокой похвалой. Но не более того. Поэтому тут, у конторы Аугуст совершенно не понял, зачем он Буглаеву понадобился; на запад, небось, половина лагеря подастся, так что в попутчиках ни у кого нехватки не будет. Особенно у Буглаева, у которого корешей полно. Что-то тут было не так, что-то не сходилось в симметрии здравого смысла. Но что именно? Впрочем, Аугуст над этой загадкой голову ломать не стал. Он привык доверять своему бригадиру. Не ограбить же тот его собирается в дороге? Так что Аугуст если и удивился немножко затылочной частью головы, которую, соответственно, коротко почесал, то упираться не стал и пожал плечами: вместе так вместе.
О, если б он знал что начнется уже завтра…
* * *
Сам Буглаев был в прошлом школьный учитель физики и боксер-любитель. Однажды в учительской он восторженно высказался по какому-то поводу о маршале Тухачевском, и когда Сталин объявил маршала врагом народа, то неосторожное высказывание припомнили Буглаеву, и его арестовали. Непосредственным поводом для ареста явилась двойка в четверти, выставленная Буглаевом толстой дуре — дочке его коллеги — учителя литературы, хотя тот очень просил поставить четверку. И еще в деле участвовал Исаак Ньютон — английский физик. Вот эта троица: Маршал Тухачевский, сексот-литератор и Исаак Ньютон с его третьим законом механики совместными усилиями и привели учителя Буглаева на зону. Исаак Ньютон потому, что вложил в уста учителя фразу, что всякое действие вызывает равное ему по величине, но противоположное по направлению противодействие. Этот физический постулат доблестные чекисты, с подачи учителя литературы связали с теплым отношением физика к расстрелянному врагу народа Тухачевскому, и через месяц беспрестанных допросов дознаватели убедили Буглаева в том, что он действительно в завуалированной форме пригрозил товарищу Сталину отомстить противодействием за бывшего маршала, врага народа Тухачевского. Доказательство преступления ткнули Буглаеву в морду: это был донос литератора, где все было изложено черным по белому: и про великого маршала, и про противодействие действием. Буглаеву перед лицом неопровержимой улики и непрекращающихся пыток пришлось сдаться и подписать чистосердечное признание. Причем раскололся он по полной программе, и выдал всю свою шайку, включая учителя литературы — резидента голландской разведки, своего непосредственного шефа, а также всех членов террористического Центра: господ Бойля, Мариотта, Гей-Люссака, сэра Томсона, а также Клаузиуса и еще злобствующего семита Эдисона — самого вредного и изобретательного из всех остальных. Все это пошло в протокол, и ввиду тесного сотрудничества со следствием, Буглаев получил всего двадцать лет (это было гораздо лучше, чем десять лет без права переписки, что означало, по сути, расстрел по умолчанию). Чтобы он понял спасительный результат своего сотрудничества со следствием, чекисты перед отправкой Буглаева на зону показали ему справку о приведении в исполнение приговора по делу его шефа, законспирированного под учителя литературы негодяя, сознавшегося во всех своих преступлениях слишком поздно, когда его уже вели на расстрел. Почему-то Буглаев от этого сообщения удовлетворения не почувствовал. Он испытал лишь чувство горечи и омерзения: к чекистам, к расстрелянному литератору и к самому себе тоже. Однако, на тот момент с эмоциями пора было заканчивать и настраиваться на десять тысяч раундов жестокого боя за выживание и за право называться человеком — в чем он уже не совсем был уверен.
Буглаева отправили на крайний север — в зону предела человеческих возможностей, где выжить нельзя, но охрана может лишь оценить, кого из новеньких на сколько хватит. Надсмотрщики оценили крепкого Буглаева на три месяца каторжных работ, но он ухитрился дотянуть до весны, а значит — появился шанс дожить и до осени. А летом сорок первого началась война. А следующая зима наползла уже в сентябре. Там, за полярным кругом, где все живое должно бы сдохнуть, был лес, как ни странно, причем густой и мощный, и зачем-то именно его требовалось валить для победы над Гитлером. Зимой от холода у полуодетых зеков замерзали и лопались на морозе глазные яблоки, и валить деревья можно было только на большой скорости и зажмурившись. Кто не верит в изречение министра здравоохранения «Движение — это жизнь», тот пусть съездит туда, за полярный круг, на лесоповал, на реку Индигирку, в январе, на неделю, нет — на день, нет — часа хватит с лихвой, чтобы понять глубокий физический смысл температурной шкалы Кельвина с ее абсолютным нулем на конце, при котором все замирает навек и абсолютно. Но скорости зекам хватало ненадолго. Особенно без еды. А еды не было. Поэтому среднестатистическое человеко-выживание составляло две недели. Буглаев оказался в этом смысле уникально морозостойким, как клоп, и мог бы претендовать на внесение в книгу рекордов Гиннеса, если бы она велась в то время. Он почти дожил до нового, 1942 года. Но потом сдался в одночасье и лег на нары, чтобы уснуть: ни одного микроджоуля энергии не осталось в нем больше; все вымерзло и растворилось — до последней искорки надежды в замирающем мозгу. Даже на открывание глаз не хватало больше сил. Он стал засыпать, пытаясь вспомнить, уже равнодушно, сколько успел написать прошений обмороженными пальцами: «Прошу заменить мне наказание лесоповалом переводом на фронт, в штрафной батальон». Три? Пять? Сто?..
Ознакомительная версия.