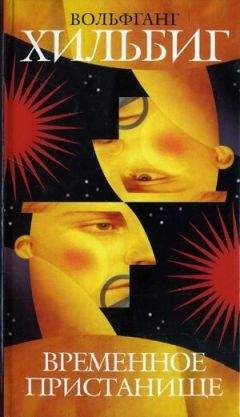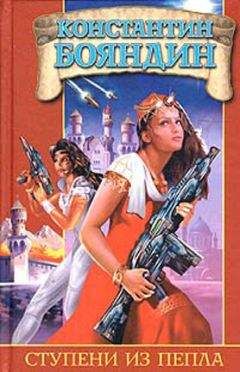– Может, ты просто забыл, где собираешься быть в это время, – отозвалась Гедда.
Он сказал правду: на февраль и март были запланированы чтения, числа значились в календаре; об обеих датах он договаривался осенью, о визовом рубеже даже не вспомнил. В почте, сложенной стопкой на кухонном столе, оказалось письмо из одного американского университета: в середине апреля его приглашали в США с докладом и чтениями; он тотчас сел за машинку и ответил согласием. Он вовсе не был уверен, что хочет в Америку, насколько он себя знает, его скорее страшат подобные мероприятия – но хотелось закрепиться, иметь обязательства, удерживающие на Западе. Вблизи от Гедды…
Неужели он и впрямь такой лгун, каким сейчас выглядит? Он сидел в своем «кабинете» за столом, служившим ему письменным; во дворе под окном переругивались гончие соседского мясника. Песье отродье завывало пронзительно, словно свора Церберов; они грызлись и визжали, уже неспособные сторожить врата адовы. Не выдержав визга, Ц. спустился на улицу… Неужели же он и впрямь лгун? Он сидел на одной из скамеек, расставленных вкруг площади; моросило мелким дождем, зарядившим с самого начала декабря; в гравии под ногами как будто шелестела пивной пеной жидкая атмосфера. То и дело его сотрясали приступы хохота. Выставив ладонь лодочкой, он прикрывал сигарету от сырости, стекавшей грязными струйками по лицу; сверху перекатывались невидимые застоявшиеся небеса, бесстыдно исходили мочой зараженные тучи…
Хотеть любить… и не уметь, разве не от этого неизбежно превращаешься в хронического лгуна? Отчаянно лицедействовать, разыгрывая любовь, ни на секунду не забывая, что не наделен этой способностью? Не уметь любить – и все-таки прирастать к женщине всеми фибрами, тем самым мужчина становится живым воплощением лжи. Он целиком составлен из лжи и при этом знает, что без женщины, которую любит такой жалкой любовью, умрет…
Он снова сотрясся в приступе хохота; заметив, что напротив стоит в обнимку под зонтиком парочка, попытался взять себя в руки. Совсем юная парочка, они целовались, загораживаясь от него зонтиком. Он отвел глаза: пожалуй, в сцене было что-то пошловатое – и стал смотреть в другую сторону. – Когда это было с ним в первый раз? Определенно ему шло уже к тридцати; бывшие однокашники давно толкали перед собой по городу детские колясочки. Он же годами забивался в углы, в норы, все пытался писать с вечным страхом в затылке: как бы кто не подглядел. И чуть ли не каждый день занимался спортом, тренировал свое тело, пока оно не стало почти идеальным… нелюбимое тело, никогда не желавшее болеть, объект нарциссической мнительности. Но еще ни разу ни с кем не целовался… при этой мысли накатывал тупой стыд. Тем самым он лишал себя, понятное дело, всякого экзистенциального смысла. А вдобавок к тому еще и вообразил, будто его тело не желает стареть; оно и не могло стареть – живому трупу стареть не дано! Да, он постоянно носил в себе стыдное чувство, что он жутковатый сомнамбулический труп, постыдный анахронизм: только бы не заметили, что он давно мертв. Вот уже долгие годы он сознавал в глубине души, что продолжать такое существование, вообще говоря, бессмысленно. Зачем жить, если внутри – безвременная пустыня упущенного, которой никогда не пересечь, из которой не выбраться…
Порой он сближался с женщиной, атаковал из своей пустыни, утаскивал в свое берберское житье. Какое-то время – около года, если затянется, – не давал ей роздыху своей ненасытностью, потом пустыня снова брала верх. В каждой женщине он словно искал тот вкус жизни, к которому ни в детстве, ни в отрочестве, ни в те бесконечные годы, что именуют «юностью», ни разу и близко не подошел. Все эти годы казались ему нескончаемой мукой, существованием в заколоченном гробу… снаружи светло, из щелей и трещин веет горьковато-цветущим благоуханием времен года, а вокруг тебя – неподвижный мрак.
С женщинами он впадал в состояние безумной гонки (понимая, что большинство из них это лишь отпугнет): нужно враз нагнать все упущенное; в каждой видел последний шанс победить в борьбе против своей бессмысленности… последний шанс, прежде чем положат на обе лопатки, прежде чем судьба задушит вконец… и в ту же секунду – пасовал. Еще продолжая любить, уже сдавался перед невозможностью любви, подпадая под беспощадный диктат этой невозможности. Ни одной из упущенных любовей не нагнать, все кончено… нельзя же начать жизнь сначала!
И с этим чувством отчаяния он вжимался лицом в женское лоно, силясь отведать настой… настой женского, настой природы, вкус жизни, запах земли. Силясь открыть, познать до конца существо женского сладострастия, испить, поглотить его ток, узнать подлинный запах женщины, чуждый, как атмосфера далекого Млечного Пути. Как можно глубже стараясь проникнуть ртом в ее отверстия, тонкая уздечка за нижним рядом зубов, на которой крепился его слишком короткий язык, постоянно рвалась… все было тщетно, все кончено. В каком-то паническом потерянном вожделении пытался он вычерпать неведомое, эти пресные неотвязные запахи гари, сладковато-горькие жидкости и вещества, загадочные цвета, менявшиеся под наплывами чувств, весь этот организм, что никогда не станет ему доступен. А когда наконец, отпрянув, выныривал из топи между раздвинутых ляжек, со слипшимися волосами, докрасна натертым лицом новорожденного – воды первоначала щиплют глаза, по щекам текут слезы, – то видел расплывчатый, широко разинутый зев, который словно бы смеялся над ним, и то был смех недостижимой свободы…
Он сидел на скамейке весь размокший, когда же наконец от нее оторвался, почудилось, будто тело его расплывается, – дождь превратил его в груду холодного мяса с налипшим слоем отяжелевшего от сырости, пропахшего пивом текстиля. Подойдя к площади Шиллера, он обнаружил, что в Геддиных окнах темно… дело известное: часами ходить в ночи, высматривать освещенное окно. Эти светящиеся прямоугольники на черном заднике ночи издавна были предметом его томления… знать бы, что происходит за ними? Что творилось за освещенными окнами квартиры в городишке М. во времена его детства – он хорошо помнил. Ссоры, вспышки гнева, потасовки, все против всех, с оружием и врукопашную под ор и визг; в конце он всегда бывал тем, кто от пинка летел в угол и против кого все они объединялись. В этих же окнах, куда он заглядывал с улицы, абажуры не раскачивались, стулья и кочерги не взлетали над головами, там царил покой…
Правда, он знал, что зачастую этот покой обманчив. Но знал и то, что в минуту слабости охотно променял бы свое внутреннее состояние на обман. Да и разве в этом столетии без вранья обойдешься?
Он сам, помнится, назвал как-то раз двадцатый век веком вранья. Весь этот век, сказал он Гедде, это один сплошной поезд вранья; в форме вранья, нагруженный враньем, поезд ехал вперед, проезжал, уезжал, ведомый локомотивом, символом правящей власти… и оставшиеся годы этого века будет продолжать ехать так же. Этот поезд стоял на рельсах вранья о прогрессе. И тащил по стране скотские вагоны, набитые людьми, потерявшими человеческий облик, тащил в Освенцим, Воркуту, Майданек, на Магадан под небом паутинной лжи.
Этот век – изолгавшийся. Заблуждений, как в прочие столетия, не было – сознательная ложь, вот и все. История человечества будто бы забуксовала на гигантской свалке вранья. Все правительства этого века правили с помощью лжи; банды, клики и секты политиков, идеологов и партийных бонз строили власть на лжи; слово власть, из чьей бы глотки ни вырывалось, в какие бы идеологические оттенки ни красилось, всегда подразумевало власть лжи. Воздух этого века отравлен враньем, города больны враньем, земля гниет от вранья. Если бы для существования века нужна была правда, то двадцатого просто не было бы…
– И это дает тебе основания так же усиленно врать? – спросила Гедда.
Он не нашелся что ответить.
Во многих окнах на Кобергерштрассе уже пылали звезды и электрические гирлянды рождественской лжи… он дважды прошел всю улицу взад и вперед; ни дать ни взять романный герой, брошенный создателем на произвол судьбы. Сочинитель оставил героя на улице, где-то между началом и концом, не знал, что с ним делать; персонаж уже потихонечку подгнивал в многословии авторских заключений. Сочтя своего героя за скучную креатуру, Бог в конце концов от него отказался…
Он в очередной раз приблизился к площади Шиллера; дождь лил как из ведра. Окна ее квартиры там, наверху, темны… позвонить еще раз? Нет, не имеет смысла; единственное, что можно сделать, – это первым же утренним поездом поехать на Восток…
В этом веке романного героя постиг печальный конец, развивал свою мысль Ц., развернувшись и шагая обратно по Кобергерштрассе. Проявилось это примерно с середины века, когда узнали о депортациях, когда появились снимки набитых людьми скотских вагонов, когда суетливо и зловеще побежали по экранам первые хроники с горами трупов, когда получила огласку скрытая за враньем реальность. Жизнь романного героя, его страдания и душевные смуты, его бесприютность, счастье и беды – все оказалось ничтожно, глупо и пошло на фоне бывших лагерных узников; истории романных героев теперь гроша ломаного не стоили, даже удара по клавишам пишущей машинки не стоили – они превратились в отходы для недоумков. Современные эпопеи для тех, кто хочет нормальных историй из нормальной жизни, – это телевизионные мыльные оперы, для романов же даже самая дешевая бумага уже транжирство. Бог с ужасом отвернул свой лик от макулатуры романной жизни, время от времени указывая перстом на тех, кто пережил Освенцим. Мыслящие люди швыряли книжки в помойку, букинисты больше не принимали липкое барахло. С тех пор как появились сообщения о Гулаге (на которых издательства, кстати сказать, сделали гигантские деньги), с невинностью повествователя было навсегда покончено. Пресловутая невинность повествователя сделалась недугом, перещеголявшим все формы старческого слабоумия. Приехав на Запад, Ц. долго дивился отвращению, с которым люди относятся здесь ко всему, что вписывается в понятие «серьезной литературы», – в стране, где рассказали правду о концлагерях, иначе и быть не могло. И ничего удивительного, что целая когорта литераторов (становившаяся все более многочисленной) двинулась в поход против неизбывного присутствия, против господства темы Освенцима: выступали они, по сути, за то, чтобы люди снова читали их глупости…