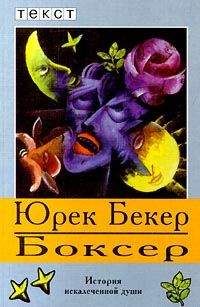Мало-помалу желающих отыскалось столько, что Ирме даже пришлось некоторым отказывать. Арон выделил ей под уроки три часа в день, но только по будням, стало быть, она могла в неделю давать пятнадцать часов и за каждый час получала пять марок. Несколько раз в начале занятий Арон тихонько садился в уголок и слушал, но он полагает, что я вполне могу себе представить, долго ли это доставляло ему удовольствие. Когда же он сидел в соседней комнате, то затыкал уши ватой и читал либо отправлялся гулять.
Но слишком далеко ему заходить не полагалось, врач, хоть и рекомендовал ему прогулки, предостерег, однако, от чрезмерного напряжения, короче местность для прогулок неизменно оставалась одна и та же. Неподалеку сыскался кабачок, который до сих пор не попадался ему на глаза и который с каждым днем все больше интересовал его, потому что из-за дверей всякий раз доносился заманчивый шум. Просто люди — и он ловил себя на том, что выбирает окольные пути, чтобы не проходить мимо кабачка. Когда его слишком уж туда влекло, он вспоминал про последний приступ, который длился несколько дней, значит, приступы могут случаться и от скуки, сказал себе Арон, зашел и сел за столик. Он снова заказал коньяк и радовался шуму.
Когда он зашел туда во второй раз, то у него уже объявились знакомые, за столиками в основном играли в карты, в скат или в шестьдесят шесть. Арон еще не забыл, как играют в шестьдесят шесть, и подсел к игрокам, здесь играли на выпивку или довольно маленькие суммы. Но куда важнее, чем выигрыш и проигрыш, для него была возможность отвлечься. «Ты глядишь на часы и благодаришь судьбу за то, что прошло столько времени». Теперь часто случалось, что он возвращался домой очень поздно и в подпитии. Ирма никогда его не упрекала, она лишь говорила, что он сам должен заботиться о своем здоровье и не перегибать палку. Арон отвечал довольно грубо и просил не учить его. Он говорил ей, что пьян не от выпивки, что, не будь этих дурацких ее занятий, ему бы и пить не пришлось. Тут она умолкала.
Однажды во время игры он схватился за сердце и упал со стула. Его перенесли в другую комнату, остальные игроки растерялись. Они уложили его как можно удобней, расстегнули на нем рубашку и не отходили, пока он не смог выпить глоток воды. Встал он только через час. За это время приехала «скорая помощь», и врач закатил ему укол. От дальнейшей помощи Арон отказался и отправился домой. Ирма сразу поняла, что случилось, а на другое утро Арон сказал ей:
— Ты видишь, я старался как мог, но ничего не выходит.
— Ты про что?
— Про уроки музыки.
— Хорошо.
Она попросила его только запастись терпением, ненадолго, на неделю, пока у нее не побывают по разу все ее ученики. Не то ей придется пойти к каждому домой, а она даже не знает все адреса. На это Арон согласился. Последняя неделя бренчания, и в кабачок он больше не ходил.
— Если б мне захотелось, — сказал как-то Арон, — я мог бы подсчитать, сколько часов мне пришлось просидеть в этом кабачке.
За время занятий Ирма заработала более трех тысяч марок наличными.
С недавних пор я не могу отделаться от впечатления, что рассказы Арона становятся все подробнее. Теперь он часто превращает пустяковые случаи в целые романы или даже того хуже: пытается придать ценность незначительным фактам, сопровождая их плоскими сентенциями. Теперь он не просто рассказывает мне о том, что Марк слишком рано встал после гриппа и тотчас снова слег с воспалением легких, нет, он добавляет к этому: «Величайший враг человека — это его собственное нетерпение».
Спросив себя, по какой причине мог так измениться стиль его рассказа, я нахожу лишь один сколько-нибудь удовлетворительный ответ: Арон хочет как можно дальше отодвинуть конец моих интервью. Лишь ему одному ведомо, как много историй еще осталось у него в запасе, лично мне думается, что немного, и он в страхе ждет того дня и часа, когда будет вынужден признать, что больше ему рассказывать нечего. И еще он боится снова стать таким же одиноким, как до нашего знакомства. Следовательно, он вполне допускает, что я способен, едва он кончит рассказывать, откланяться и больше никогда не показываться, и это подозрение для меня оскорбительно. Разумеется, я не могу так, прямо, ему сказать: «Ты зря боишься, рассказывай мне дальше, как рассказывал до сих пор, только без этих отклонений, которые никому не интересны, я и после конца нашей работы буду к тебе заходить, так часто, как ты сам этого пожелаешь». Вместо этого я сижу перед ним с участливым выражением лица, киваю на каждое третье слово и чувствую себя не очень уютно. Я впервые сознаю, что занял в жизни Арона определенное место и никакой возможности отступления у меня больше нет, во всяком случае достойного отступления. При этом совершенно не играет роли, приятно мне это или нет.
Я спрашиваю у него, не считает ли он, что своим одиночеством он в большой степени обязан самому себе, что он слишком легкомысленно и бездумно оторвался от всех и от всего. Арон тут же отвечает:
— Я не сам себе выбирал то, что со мной произошло.
— Именно в этом я тебя и упрекаю, — отвечаю я.
— Выбирать можно лишь тогда, когда есть из чего.
Не имеет смысла говорить, что ему есть из чего выбирать. Он попросил бы меня перечислить, из чего именно, я мог бы назвать во-первых, во-вторых, в-третьих, а он сразу же начал бы называть каждую из перечисленных возможностей глупой и не заслуживающей внимания. «И эти глупости, по-твоему, выход?» — спросил бы он, не поверив моим словам, что лишь сочетание отдельных, маленьких начинаний может принести удовлетворение. Вместо этого я говорю ему, что он мог бы, к примеру, стать опекуном пожилых людей.
— Это с моим-то нетерпением?! — восклицает он. — С моим сердцем? Да мне самому нужен опекун.
Или он мог бы работать на каком-нибудь предприятии бухгалтером, в случае чего — на полставки, таких специалистов сейчас днем с огнем ищут.
— Мне и так хватает денег на жизнь.
— Черт подери! — восклицаю я. — Кто тебе говорит про деньги?
Я призываю себя к спокойствию и объясняю, что во всех моих предложениях речь идет лишь о гипотетических возможностях самому покончить с одиночеством.
— Счастья, — говорю я ему, — можно достичь лишь благодаря отношениям с другими людьми, во всяком случае, того, что я подразумеваю под счастьем, но никогда в уединении и никогда уклоняясь от чего-либо.
Если отвлечься от некоторых немногочисленных достижений техники, Арон до сих пор живет в каменном веке. Вокруг него совершаются важнейшие общественные изменения, а он, видите ли, ни в чем не желает участвовать. Даже его отношение к происходящему, все равно, неприятие это или, наоборот, симпатия, мне не ясно. Я говорю:
— У тебя есть документ, который удостоверяет, что ты жертва фашизма и потому имеешь право на некоторые льготы и привилегии. Против этого трудно возразить, но неужели тебе этого достаточно? Пожалуйста, не пойми меня превратно, но разве тебя устраивает перспектива всю свою жизнь быть только жертвой фашизма и больше ничем?
— Ты что, хочешь, чтобы я отказался от удостоверения? — спрашивает Арон.
И я отвечаю:
— О, Господи!
Тогда он:
— Не волнуйся, пожалуйста, я все равно скоро умру.
Я в ответ:
— Я просто изнемогаю от сострадания.
— Ну спроси же меня, наконец, — предлагает Арон, — с чем я согласен, а с чем нет. Ты ведь еле терпишь…
— Не пойму, о чем ты, — отвечаю я.
— Это ты можешь рассказать своей бабушке, — говорит он.
И снова недоразумение, и снова его терзает подозрение, что наши разговоры — это на самом деле замаскированные допросы. Но, как мне приходит в голову, допрашивают лишь тех, кого подозревают в каком-нибудь преступлении. В каком же, по мнению Арона, подозреваю его я? Хотя нет, ведь свидетелей тоже допрашивают, будем надеяться, что это ему известно, если он уж никак не может отказаться от своего заблуждения. Я говорю: да я ж тебя не спрашиваю о том, что и без того знаю.
Арон глядит на меня, ехидно прищурившись, каким, мол, умницей я себя считаю.
— Тебе известны мои политические взгляды?
— Ну, так, примерно, — отвечаю я.
— А откуда?
— Ну мы ж с тобой сколько времени знакомы.
— Да что ты говоришь! — восклицает Арон. Он явно не знает, смеяться ему или сердиться. — Тогда сделай одолжение и расскажи мне про них.
— Про твои взгляды?
— Да.
— Я думал, ты их и сам знаешь.
Арон и бровью не повел, выслушав мою не слишком удачную шутку. Я вижу, что он решил не произносить больше ни слова, пока я не выполню его желание. Чтобы он не счел меня шарлатаном, я начинаю с заявления, что речь пойдет лишь о моих предположениях, однако о таких, которые основаны на наблюдениях или на мыслях, высказанных им при других обстоятельствах и по другому поводу. Он нетерпеливо кивает, и я начинаю. Я говорю, что его отношение к любому общественному порядку, нашему или не нашему, продиктовано себялюбием. Что оно зависит от того, сколько может дать этот порядок лично ему.