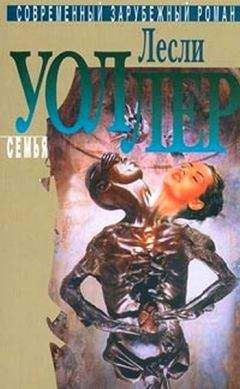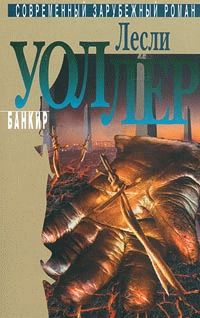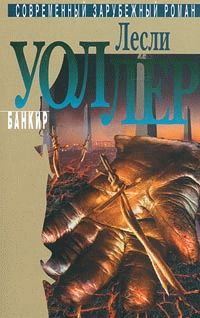— Значит, вы можете уложить их всех на лопатки?
— Спокойной ночи!
Палмер велел водителю отвезти его домой. Ему явился грустный образ Эдис. В какой роли он ее представляет чаще — матери или жены? Ни то, ни другое ему не подходило. Что-то внутри его шевельнулось, там, где, по его предположениям, было сердце. Сначала слабый толчок, а потом — резкий: он думал о Вирджинии, а потом — об Эдис. Он принял неправильное решение, хотя исходил из очень правильных соображений. И застрял на этом. Он не позволял себе раньше думать о Вирджинии. Думать о ней значило причинять себе боль. После нее в нем поселилась боль. Так бывает, когда отнимают руку или ногу. А теперь, подумал он, я впервые вспомнил о ней. Снова щемит внутри та же боль потери.
Лимузин остановился перед его домом. Палмер постарался привести свои мысли в порядок, так, чтобы Эдис ничего не заподозрила.
Теперь в задней комнатке лавки было уже совершенно темно. Узкая раскладушка заставляла Кимберли и Эдис лежать на боку. Они лежали лицом друг к другу, но друг друга не видели, и Эдис утратила чувство реальности. На какой-то момент она забыла, как выглядит Кимберли.
Она услышала его спокойное дыхание, словно он заснул на несколько минут. Затем его ладонь с шершавой кожей продвинулась от ее грудей вниз, к ягодицам, лаская их и поглаживая.
— Тебе надо уходить? — спросил он.
— Я даже не соображу, который час.
Он шевельнулся: и стал перебираться через нее. Кожа на его теле была такой же гладкой, как ее, осознала она, вовсе не такая огрубевшая, как на его ладонях. В темноте вспыхнула спичка, и он поднес ее к своим наручным часам.
— Начало шестого. Здесь очень темно. Возможно, с другой стороны, у входа в магазин, немного светлее.
— Но никто не рвется войти в него.
Он рассмеялся и загасил спичку.
— Не похоже. «Операции Спасение» еще далеко до ажиотажа. Пока что.
— Здесь есть какой-нибудь свет?
— Нет.
— А свечка?
— Угу.
Она почувствовала, как он слез с раскладушки, и услышала шлепанье его босых ног по полу. Он врезался головой в деревянную скульптуру и тихо выругался.
Эдис стала замерзать.
— Оставь. Иди согрей меня.
— Секунду…
Она услышала, как он роется в ящике. Потом зажег спичку и поднес ее к короткой, но толстой белой свече, какими пользуются водопроводчики. В оранжево-желтом свете проступили очертания. Она разглядела Кимберли, его решительное лицо, когда он прикрывал свечу от легкого сквозняка раскрытой книгой.
Она заметила, что он ужасно худой, даже тоньше, чем она сама. Оба они, лежа на раскладушке, узкой и длинной, идеально подходили друг другу для судорожного занятия любовью. Эдис подумала, что под тяжестью другой пары раскладушка бы рухнула, а под ней погибла бы чья-то любовь.
Она лениво удивилась этому, и ее осенила мысль, что между ними ничего нет. А то, что было, — скорее чистый эксперимент, чистый знак признательности и много мексиканский текилы. Эдис не питала иллюзий: для романа им много чего недостает. Она поежилась от пробежавшего по голому телу сквозняка.
— Холодно.
— Да, — сказал Кимберли.
Он повернулся к ней, анфас он выглядел не таким истощенным. Лицо было коричневым, а кожа на теле была светлее, достаточно светлой, чтобы Эдис разглядела, что между сосками кудрявятся волоски, а от них спускается книзу, к темному треугольнику, забавная линия завитков.
— Как ты сумел избежать обрезания?[81] — спросила она.
Этот вопрос самой ей показался таким странным, что она почти непроизвольно начала хихикать.
— Просто повезло.
И тут они оба стали неудержимо хохотать, сами точно не понимая почему. Она начала играть его членом, осторожно обнажая крайнюю плоть, а он стоял над ней.
— Тебе не больно?
Он покачал головой.
— Это для тебя новая игрушка?
Она на мгновение задумалась.
— По правде… да. Мой муж и оба моих мальчика обрезаны и…
Она замолкла.
— И это единственный чужой член, единственный петушок, который ты видела, — закончил он за нее.
— Петушок — мне нравится это слово.
Он опустился на колени на краю раскладушки.
— Тебе нравится и то, что оно означает, крошка?
— Я начинаю это осознавать как никогда.
— Ты поздно расцветший цветок, — улыбнулся он ей, и они снова начали смеяться, — поздно расцветший, но прекрасный.
— А до того сколько времени было потрачено зря!
Он накрыл ее своим телом, и ее кожа стала согреваться. Только сейчас она поняла, как замерзла. Тепло вливалось в нее, когда их тела терлись друг о друга. У нее перехватывало дыхание от сознания того простого факта, что она так сильно нуждалась в этом. Нуждаться в этом и иметь это. Что еще надо?
Розали вынуждена была оставить всех четверых детей на попечение миссис Трафиканти, которая должна была покормить их ланчем и ужином. Это будет очень насыщенный день, более насыщенный, чем обычно. В город она отправится с мамой и сестрой Селией, в середине дня будет одна, а потом — ужин с Беном. И непременно ей надо успеть позаниматься.
Ланч прошел замечательно. Теперь, когда она сбросила несколько фунтов веса, Розали очутилась где-то посередке между своей стройной матерью и толстой сестрой. Все трое, невысокие и темноволосые, выглядели как фотографии одной и той же женщины, снятой в различные периоды времени для рекламы пилюль, снижающих вес.
Они сидели в маленьком ресторанчике в центре города и пили кофе. Ресторанчик Розали выбрала, потому что в нем вкусно готовили стейки. Тут можно было заказать еду, от которой не толстеешь, как от привычной le paste[82] и соусов.
— Ты только посмотри, — сказала мама, кивнув своей маленькой, словно у — изящной птицы, головкой в сторону Розали. — Ты только посмотри, Селия. Она не сдается и скоро станет совсем тощей.
— Ах, мама, — на мгновение взгляд Селии встретился с взглядом старшей сестры. Между девушками был всего лишь год разницы, и очень часто, когда они были моложе, их принимали за близнецов. Но теперь уже нельзя было ошибиться, теперь, когда Розали стала что-то делать со своим весом.
— Так не честно, зачем же дразнить Селию, — сказала Розали, — ведь она живет с тобой и папой, когда же ей следить за своим весом?
— Что ты ела сегодня? — с вызовом спросила мать. — Говядину, да? Insalata verde, con aceto e dio.[83] Что тут особенного? Дома я даю ее Селии, когда только она хочет.
— Плюс паста, — сказала Розали скучным голосом. Это был их вечный спор. — Плюс gnocci,[84] плюс тонны хлеба, пшеничного от Зито, плюс масло, плюс картошка, зеленый перец и лук, пожаренные вместе. — Ой, я опаздываю, — сказала она, взглянув на часы.
Она поднялась, чувствуя себя ужасно виноватой. Она придумала для сестры и матери легенду, что у нее свидание с соседкой из Скарсдейла, которая возьмет ее с собой за покупками в магазины в верхней части города. Для девочки, родившейся и выросшей в Гринвич-Виллидж, понятие «верхний город» означало все, что выше Четырнадцатой улицы, и Розали использовала эти два слова умышленно, зная, как неопределенно они прозвучат.
Сразу же подошел официант. Поскольку это были жена и дочери Дона Винченцо, их столик обслуживали два официанта. Сейчас появился старший из них, тот, что говорил с ирландским акцентом.
— Что угодно, мисс?
— Ничего. — Розали жестом отослала его. Она начала облачаться в свое суконное пальто, новое, военного цвета хаки, с эполетами и латунными пуговицами. Официант кинулся помочь ей. Розали улыбнулась ему, потом повернулась к матери и сестре и поцеловала их в левые щеки.
— Будете вечером дома? — спросила она.
— Si, come no?[85]
Розали сделала неопределенный жест.
— Возможно, мы с Беном будем ужинать в Виллидж. Было бы очень мило с его стороны, если бы мы забежали выпить чего-нибудь прежде, чем вернемся в Скарсдейл. Ты же понимаешь, он так давно не виделся с папой.
Розали вышла из ресторанчика и тут же остановила такси, опять чувствуя себя виноватой, потому что притворялась, будто спешит на какую-то встречу. На самом деле она даже не знала, куда направиться. Может быть, в то место, неподалеку от дома папы, в Новую школу? Или прямо в Нью-Йоркский университет?
Она вышла из такси в конце Пятой авеню и стояла там некоторое время, глядя на арку Вашингтон-сквер. Этот суматошный район всю жизнь приводил ее в замешательство, даже когда ее совсем крохой провозили здесь в коляске или когда она лежала тут под аркой, представляя себе всякие сцены из жизни Вашингтона.
Нижняя часть обеих колонн была исчиркана надписями, в смысле которых было невозможно ошибиться. Розали медленно прошла мимо колонн, лицо ее покраснело от смущения, хотя она и не хотела подать виду. «В гробу я видел эту войну».