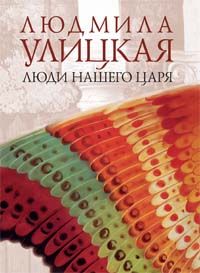Ознакомительная версия.
Тут пришел муж Гриша и принес бутылку коньяку. Подарок пациента.
– А вы знаете, что это вообще не коньяк?- задала Маша провокационный вопрос.
Гриша открыл, понюхал:
– Коньяк. Без вопросов. Хороший армянский коньяк.
Маша засмеялась:
– Коньяк - такой город во Франции. Там производят напиток, называемый коньяк. А все прочее - не коньяк. И Кагор тоже название городка, а вовсе не крепленое вино, производимое в Крыму.
У Гриши был золотой характер:
– Иди, Женька, приготовь нам поесть чего-нибудь, а мы пока выпьем этого неопределенного напитка, который вроде бы и не коньяк даже.
«Ужасно,- думала Маша.- Хороший, кажется, человек, а ведь и в голову не приходит, как он унижает свою жену, отсылая ее на кухню готовить еду. Майкл никогда не позволяет себе такого…»
Ей, бедняге, еще предстояло узнать, что Майкл, будучи человеком современным, позволяет себе нечто другое, что ей понравится еще меньше, чем жарить мужу картошку…
Расстались подруги с ощущением, что навсегда. До Жени Воробьевой доходили какие-то смутные слухи о большой машиной жизни: она написала книгу о рабочем движении после шестьдесят восьмого года, развелась с мужем, который бросил ее ради молодого человека,- что с трудом помещалось в воробьином сознании,- жила не то в Африке, не то в Южной Америке, а, может, и там, и там. Пару раз приезжала в Москву навещать Элеонору, но Воробью больше не звонила. Воробьева не обижалась и считала это естественным: разные орбиты.
Но семь лет спустя вдруг позвонила:
– Воробей! Саша умерла. От цирроза печени. Завтра похороны. Отпевание на Преображенке, в Никольской церкви в одиннадцать, потом поедем хоронить в Передел кино.
Маша плакала. Заплакала и Воробьева: Саша была такая красивая, и тоже особенная - свободная и талантливая…
Воробьева первый раз в жизни пришла на отпевание. Не то что у нее никто прежде не умирал, но жили и умирали в большинстве своем без церкви.
Там было великое множество народу, как на театральной премьере,- интеллигентные, красиво одетые люди, женщины в шубах. У гроба стояла маленькая Элеонора в старой шубе из опоссума с воспаленно-красным лицом и синевато-белая Маша в черной вязаной шапочке. Между ними - высокая девушка, похожая на Сашу, но даже еще лучше.
Увидев Воробья, Маша кинулась к ней, обхватила руками:
– Воробей, дорогой мой Воробей, как же я тебя ждала! Ты себе не представляешь, как ты мне нужна. Я и сама не представляла…
Они брызнули друг на друга слезами, а потом Воробьева посмотрела в гроб: желтая старушка с маленьким крючковатым носом нисколько не была Сашей… Настоящая Саша называлась теперь Дусей, но лицо имела строже и ростом была выше.
Вышел маленький священник, совсем маленький, лысый и похожий на Николая Чудотворца.
Они стояли, обнявшись, слепившись в горести - Элеонора, давно уже предчувствовавшая конец, именно такой - позорный, как она это понимала, Маша, не подготовленная к этому событию, несмотря на все телефонные сухие отчеты матери: «умирает», «погибает», «уходит». Красивая юная Дуся напомнила Жене Сашу как раз в том самом возрасте - ей лет пятнадцать-шестнадцать, и Стасика, и сцену в ванной… И Воробьева остро вдруг почувствовала, как глубоко и по-сестрински привязана она к нелепой Машке, трогательной, все еще похожей на красивого мальчика, но уже начавшей подсыхать…
В Переделкино гроб несли на руках к могиле многие мужчины, сменяясь. Был лютый мороз, они все были без шапок, в банных клубах их собственного дыхания.
– Все ее любили,- шепнула Воробьева Маше.
– Я думаю, это половина тех, кто ее любил,- строго ответила Маша.
Маша провела в Москве неделю. Воробьева снова сидела в Элеонориной квартире. Она вернулась туда после стольких лет, как в родной дом. Элеонора поставила перед ней одну из коллекционных чашек, из горки, и вообще была ласкова. Спросила, знает ли она Коварского.
– Я работаю у Коварского-младшего,- ответила Воробьева.
– Говорят, что он не хуже отца,- неуверенно сказала Элеонора.
Воробьева согласилась.
– У внучки моего близкого друга подозревают лейкоз. Можно ли…- начала Элеонора.
– У меня кандидатская была по лейкозу. Это моя специализация, детский лейкоз. Конечно, любая консультация… Если хотите, можно и к Коварскому-старшему…
Маша уехала, и теперь подруги изредка обменивались письмами, какая-то слабая ниточка восстановилась. Жила Маша теперь в Лондоне, в трехэтажной классической квартире, которую купил ей бывший муж в скромном, но не плохом районе. Сам он остался в прежнем, большом доме в Кенсингтоне, принадлежавшем еще его прадеду-юристу. Жизнь Машина после развода пошла под горку: в ней было все меньше блеска, общения со знаменитостями, разъездов по мировым столицам, презентаций и приемов - все это, как и старый дом с садом, осталось у Майкла. Зато у Маши была работа - она стала крупным специалистом по рабочему движению, была знатоком троцкизма, принадлежала к левой интеллектуальной среде и даже имела репутацию серьезного эксперта по коммунизму. Она пользовалась некоторым успехом у мужчин своего круга, но внешность ее - мальчишеская стройность, очаровательная угловатость движений, чудесный овал лица и раскосые светлые глаза - скорее подходила тому артистически-художественному кругу, который она покинула, нежели теперешнему. У нее было несколько незначительных романов, которые приносили больше разочарований, чем радостей. Пожалуй, самой лучшей и длительной из всех ее связей была итальянская: на протяжении шести лет она приезжала в один и тот же маленький городок под Неаполем, где к ее услугам была гостиница, зонтик на пляже и маленький ресторанчик вместе с его владельцем, сорокалетним Луиджи, который жил в зимние месяцы, когда бизнес останавливался, в двадцати километрах от моря, в незначительном городке с женой и дочками, а в летнее время ублажал заезжих гостей неаполитанской пиццей и всем тем, что было в его распоряжении. Эти двухнедельные поездки в Италию давали Маше большой заряд здоровья, потому что в Англии ей во всех отношениях не хватало тепла. Потом Луиджи исчез, и когда Маша спросила у нового владельца, куда же он делся, тот развел руками:
– Я купил у него дело, он взял деньги и уехал. Посмотрите, какую террасу я пристроил. Хотите, это будет ваше постоянное место?
Но постоянным местом был Лондон, а в нем накатывала депрессия, особенно весной и осенью. Маша стала чаще наведываться в Москву.
В восемьдесят пятом Элеонора разбила ее сердце - вышла замуж. Это было нелепо, глупо, даже стыдно. Ей было без малого семьдесят, и хотя она все еще сохраняла стройность и подвижность, была совершенная старуха.
Маша была оскорблена тем, что мать ее ни о чем не предупредила. Когда Маша приехала, Элеонора встретила ее в Шереметьево и рассказала о своем замужестве по дороге домой. Второй удар постиг Машу уже дома: мамин муж занял ее комнату под рабочий кабинет, и Элеонора постелила ей в гостиной. Наутро Маша собрала вещи и съехала к Воробьевой, они с мужем к тому времени родили ребенка и построили кооперативную квартиру.
Десять дней Маша мрачно просидела на Тимирязевке, раза три вышла из дому, почти никому не звонила. Травма была глубочайшая. Пожалуй, только история с Майклом подействовала на нее так сокрушительно.
Элеонора два раза звонила Воробьевой, но Маша увиделась с матерью лишь перед отъездом, на нейтральной территории: в дом, оскверненный непристойным замужеством, Маша не пошла.
Нейтральным местом было кафе в гостинице «Националь». Они сидели за столиком, маленькая прямая Элеонора и сгорбившаяся, потерявшая свою всегдашнюю струну Маша, перед ними стояли две чашки кофе, берлинское печенье и бутылка «Боржоми». Элеонора сказала Маше, что вышла замуж за человека, которого любила много лет, что он овдовел и теперь, впервые в жизни, она живет вместе с мужчиной, которого любит, что она совершенно счастлива, что оба они в таком возрасте, что о долгом счастье речи быть не может, но она дорожит каждым оставшимся днем и ни одного из них не хочет потерять. Она просила прощения, что совершила бестактность, предоставив Юрию Ивановичу ее комнату, что готова просить его временно перебраться со своими занятиями в гостиную, потому что, как ты сама, Маша, можешь понять, в маленькой, бывшей няниной, она не может поселить бывшего генерала,- Элеонора улыбнулась случайной шутке,- а спальня имеет у нас другое назначение.
В голосе ее звучало женское торжество, как будто этого замшелого генерала она отбила непосредственно у дочери. Маша уловила эту ноту, и особенно намек на его пребывание в спальне.
«Господи, она со мной что, соревнуется?» - думала Маша.
Ей хотелось, как это было принято прежде, в детстве, когда они жили втроем, заорать, завизжать, швырнуть об пол чашку, и, будь они дома, может, это бы и произошло, а потом бы они обе рыдали, гладили друга по голове и плакали в глубоком примирении и внутреннем согласии…
Ознакомительная версия.