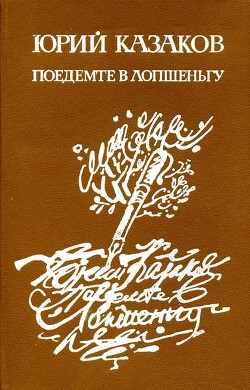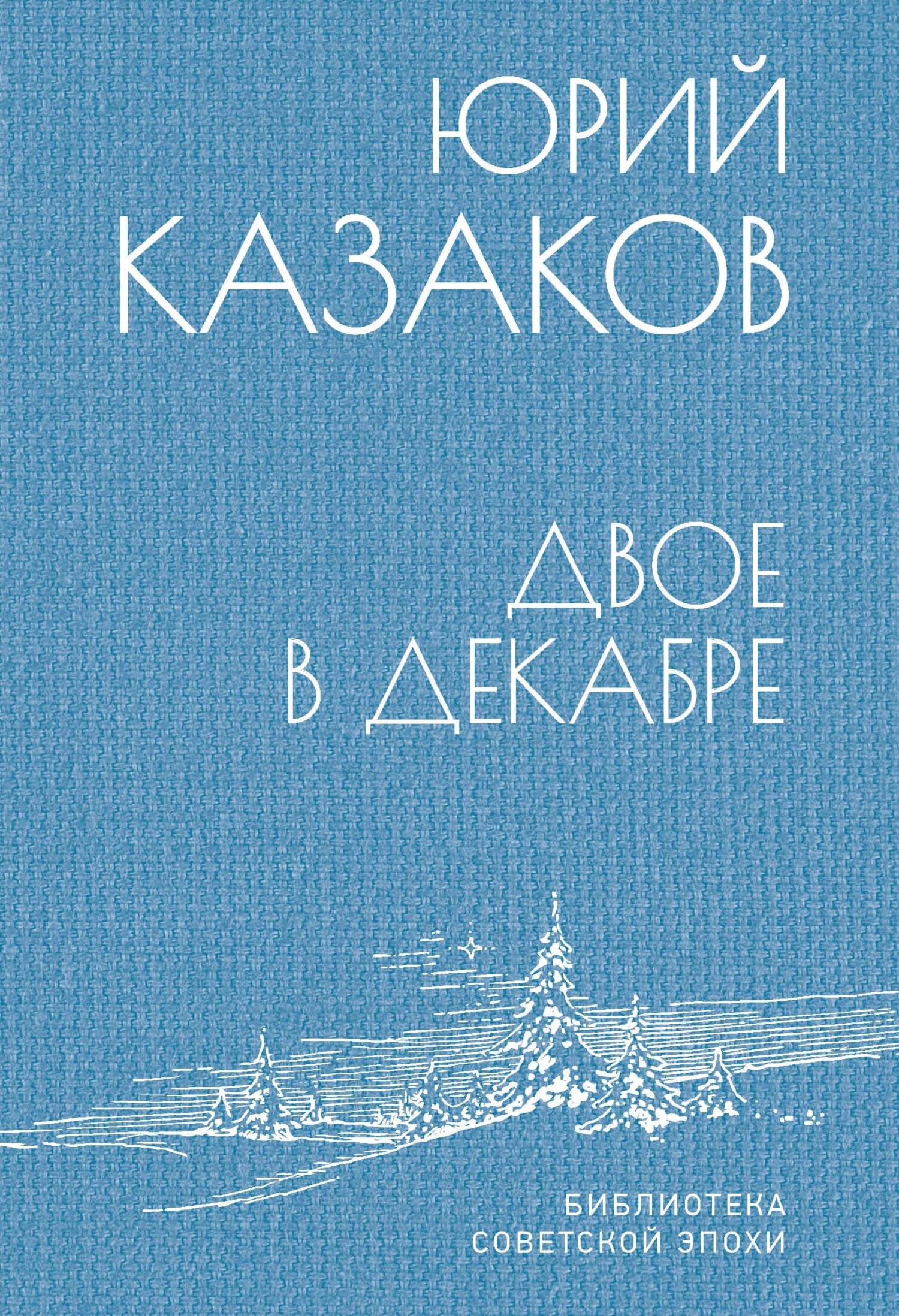Так он и просидел часа два, покуривая в окошко и вяло переговариваясь с хозяйкой. Он даже задремал было, но его разбудили голоса на улице: гнали стадо, и бабы скликали коров.
Наконец ждать не стало смысла, и Жуков, разозленный на неудачу, выпив на дорогу кислого квасу, от которого тотчас стали скрипеть зубы, пошел к себе в колхоз. А идти было двенадцать километров.
Старика Матвея, ночного сторожа, Жуков догнал на мосту. Тот стоял в драной зимней шапке, в затертом полушубке, широко расставив ноги, придерживая локтем ружье, заклеивал папиросу и смотрел исподлобья на подходившего Жукова.
— А, Матвей! — узнал его Жуков, хоть и видел всего два раза. — Что, тоже на охоту?
Матвей, не отвечая, медленно пошел, скося глаза на папиросу, достал из-под полы спички, закурил, дохнул несколько раз и закашлялся. Потом, царапая ногтями полу полушубка, спрятал спички и тогда только сказал:
— Какое на охоту! Сад стерегу ночью. В салаше.
У Жукова от кваса все еще была оскомина во рту. Он сплюнул и тоже закурил.
— Спишь небось всю ночь, — сказал он рассеянно, думая, что зря не уехал давеча, когда была машина, а теперь вот надо идти.
— Как бы не так — спишь! — помолчав, значительно возразил Матвей. — И спал бы, да не дают…
— А что, воруют? — иронически поинтересовался Жуков.
— Ну, воруют! — усмехнулся Матвей и пошел вдруг как-то свободнее, как-то осел и вроде бы отвалился назад, как человек, долго стесняемый, вышедший наконец на простор. На Жукова он не взглянул ни разу, а смотрел все по сторонам, по сумеречным полям. — Воровать не воруют, браток, а приходят…
— Ну? Девки, что ли? — спросил Жуков и засмеялся, вспомнив Любку и что сегодня он ее увидит.
— А эти самые… — невнятно сказал Матвей.
— Вот дед! Тянет резину! — Жуков сплюнул. — Да кто?
— Кабиасы, вот кто, — загадочно выговорил Матвей и покосился впервые на Жукова.
— Ну, повез! — насмешливо сказал Жуков. — Бабке своей расскажи. Какие такие кабиасы?
— А вот такие, — сумрачно ответил Матвей. — Попадешь к им, тогда узнаешь.
— Черти, что ли? — делая серьезное лицо, спросил Жуков.
Матвей опять покосился на него.
— Такие, — неопределенно буркнул он. — Черные. Которые с зеленцой.
Он вынул из кармана два медных патрона и сдул с них махорочный сор.
— Вот, глянь, — сказал он, показывая бумажные пыжи в патронах.
Жуков посмотрел и увидел нацарапанные чернильным карандашом кресты на пыжах.
— Наговоренные! — с удовольствием сказал Матвей, пряча патроны. — Я с ими знаю как!
— А что, пристают? — насмешливо спросил Жуков, но, спохватившись, опять сделал серьезное лицо, чтобы показать, что верит.
— Не так чтобы дюже, — серьезно ответил Матвей. — К салашу не подходят. А так… выйдут, значит, из теми один за однем, под яблоней соберутся, суршат, брякочуть, махонькие такие, станут так вот рядком… — Матвей опустил глаза на дорогу и повел перед собой рукой. — Станут и песни заиграют.
— Песни? — Жуков не выдержал и прыснул. — Да у тебя не похуже, чем у нас в клубе, — самодеятельность! Какие песни-то?
— А так, разные… Другой раз дюже жалостно. А потом и говорят: «Матвей, а Матвей! Подь сюды! Подь сюды!»
— А ты?
— А я им: «Ах вы, под такую мать!.. Брысь отседа!»
Матвей любовно усмехнулся.
— Ну, тогда они начинают к салашу подбираться, а я сейчас наговоренный патрон заряжу, да кэ-эк ахну!..
— Попадаешь?
— Попадаешь! — презрительно выговорил Матвей. — Нячистую силу рази убьешь? Так, разгоню маленько до утра, до первого петуха…
— Да! — помолчав, сказал Жуков и вздохнул. — Плохо, плохо!
— Кого? — спросил Матвей.
— Плохо у меня дело с атеистической пропагандой поставлено, вот что! — сказал Жуков и поморщился, оглядывая Матвея. — Небось и по деревне брешешь, девок пугаешь? — строго спросил он, вспомнив вдруг, что он заведующий клубом. — Кабиасы! Сам ты кабиас!
— Кого? — опять спросил Матвей, и лицо его вдруг стало злобно и внушительно. — А вот мимо лесу пойдешь?
— Ну? И пойду!
— Пойдешь, так гляди — навряд домой придешь. Они тебя пирнясуть.
Матвей отвернулся, ничего более не сказав, не простившись, быстро пошел полем к темневшему вдали саду. Даже в фигуре его видна была сильнейшая озлобленность.
Оставшись один на дороге, Жуков закурил и огляделся. Наступали сумерки, небо на западе поблекло, колхоза сзади почти не стало видно, темнели только кое-где крыши между тополей да торчали антенны телевизоров.
Слева виден был березовый лес. Он уступами уходил к горизонту. Было похоже, будто кто-то по темному начиркал сверху вниз белым карандашом. Сперва редко, подальше — чаще, а в сумерках горизонта провел поперечную робкую светлую полосу.
Слева же видно было и озеро, как впаянное, неподвижно стоявшее вровень с берегами и одно светлевшее на всем темном. На берегу озера горел костер, и на дорогу наносило дым. Падала уже роса, и дым был мокрым.
А справа, в сумрачных лугах и просеках, между темными мысами лесов, с холма на холм шагали решетчатые опорные мачты. Они были похожи на вереницу огромных молчаливых существ, заброшенных к нам из других миров и молча идущих с воздетыми руками на запад, в сторону разгорающейся зеленоватой звезды — их родины.
Жуков опять оглянулся, все еще надеясь, что, может быть, пойдет попутная машина. Потом зашагал по дороге. Он шел и все поглядывал на костер и на озеро. Возле костра никого не было. Не видно было ни души и на озере, и одинокий огонь, неизвестно кем и для чего зажженный, производил странное впечатление.
Жуков шел сначала нерешительно, покуривая, оглядываясь, поджидая машину или попутчика. Но ничего не было видно ни спереди, ни сзади до самого горизонта, и Жуков наконец решился и зашагал по-настоящему.
Он прошел километра четыре, когда стало совсем темно. Одна только дорога светлела, перебитая кое-где туманом. Ночь наступала теплая. Только когда Жуков попадал в туман, его охватывало холодом. Но потом Жуков опять выходил в теплое, и эти переходы от холодного к теплому были приятны.
«Темный у нас народ!» — думал Жуков. Он шел, сунув руки в карманы, двигал бровями и вспоминал лицо Матвея, какое оно сразу стало злобное и презрительное, когда он посмеялся над ним. «Да, — думал он, — надо, надо усилить атеистическую пропаганду. Суеверия надо искоренять!» И ему еще больше захотелось поговорить с кем-нибудь о культурном, об умном.
Потом он стал думать, что пора бы ему перебраться в город, поступить куда-нибудь учиться. И тут же по своему обыкновению стал он воображать, как дирижирует хором не в колхозном клубе, где нет даже кулис и где ребята покуривают в зале и пересмеиваются, а в Москве, и что хор у него в сто человек — академическая капелла.
Как всегда, от подобных мыслей он почувствовал радостное оживление и уже ничего не замечал кругом, не обращал внимания ни на звезды, ни на дорогу, шел неровно, сжимая и разжимая кулаки, двигал бровями, принимался напевать и усмехаться, не боясь, что кто-нибудь увидит его. Он даже рад был, что идет один, без попутчиков. Так он и дошел до пустого сарая близ дороги и сел на бревно отдохнуть и покурить.
Когда-то был здесь хутор, но после укрупнения колхоза хутор снесли, остался один сарай. Сарай был раскрыт и пуст. В нем, кажется, и двери даже не было. Был он темен и скособочен, а в дыре дверей, в глубине его, стояла особенно глухая чернота.
Жуков сидел, поставив локти на высоко поднятые колени, лицом к дороге, спиной к сараю, курил, остывая постепенно, и думал уже не о консерватории, а о Любке, решая, как бы ее, наконец, половчее поцеловать, когда почувствовал, что на него смотрит кто-то сзади.
Он понял вдруг, что сидит во тьме один, среди пустых полей, среди загадочных темных пятен, которые могут быть кустами, а могут быть и не кустами.
Он вспомнил Матвея, жестко-вещее лицо его напоследок и пустынное немое озеро с костром, неизвестно для чего зажженным.
Затаив дух, он медленно оборотился и взглянул на сарай. Крыша сарая висела в воздухе, даже звезды были видны в промежутке. Но только он взглянул на нее, как она села на сруб, а за сараем что-то с топотом побежало в поле с задушенным однообразным криком: «О!.. О!.. О!..» — все дальше и глуше. Волосы у Жукова поднялись, он вскочил и прыгнул на дорогу.