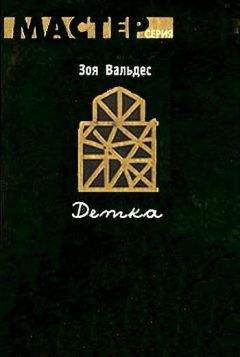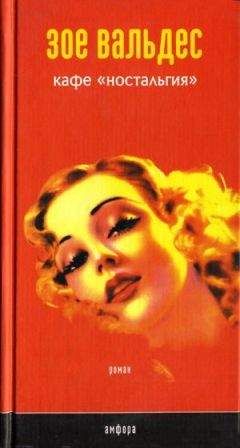– Мама, мне не дали места в новостях. Теперь я вообще не у дел – так и буду всю жизнь журналисткой-неудачницей. Ты просто не представляешь, как я измоталась. Будь у меня пачка таблеток, я бы их все проглотила разом, а у меня ни сигарет, ни выпивки – даже взбодриться нечем.
– Ах, детка, ты слишком мрачно смотришь на вещи! Послушай, у меня для тебя хорошая новость. Надеюсь, она тебя немного порадует. Видишь ли… Мне трудно говорить об этом, но я хочу, чтобы мы сейчас поняли друг друга. Ты ведь знаешь, я тебя никогда не обманывала.
– Мама, перестань лезть мне в душу. Если ты опять про свой шарик в груди, то я о нем и так знаю. Фотокопировщица заходила на неделе и корила меня. Рассказывала, что у тебя какая-то страшная болезнь. В ближайший понедельник отвезу тебя в больницу. Я понимаю, что такими вещами не шутят. Извини.
– Да подожди ты. Ни на минуту не может закрыть рот! Реглита, выброси из головы все дурное, забудь о моих болезнях и о всем таком прочем. Речь не о каких-то дешевых бедах. Доченька, дело в том… Только не подумай, что я не понимаю твоих проблем. Но сейчас у меня для тебя есть чудесная новость. Знаю-знаю, что ты терпеть не можешь всяких неожиданностей. Но иногда встряска бывает полезна. Знаешь, один кардиолог мне говорил, что, вопреки общему мнению, внезапный испуг, нежданное горе, как бы это сказать, только укрепляют сердечную мышцу, делают ее непробиваемой, как у Терминатора. Так что, если тебя порядком огорошить, то некоторое удивление пойдет тебе на пользу – такое удивление, от которого можно свалиться на пол и сломать копчик, такое, которое клеймит нас, как скотину, каленым железом.
И горле у меня встает комок, я не могу больше произнести ни звука.
– Мама, ты слышишь меня? Ты что, бросила трубку?
Я молчу. Уан вырывает у меня трубку. Я сопротивляюсь из последних сил. Нет, я не позволю ему сейчас, после такой пропасти лет, украсть у меня мое дитя. Эту крошку, для которой я была и отцом, и матерью. Мою дочь. Ладно, нашу. Новость должна сообщить ей я, и никто другой. Надо сказать прямо, начистоту: Реглита, маленькая моя, передаю трубку твоему отцу. Уан берет тяжелый черный телефон и говорит хриплым голосом:
– Привет, дочурка, ну что там у тебя? Я твой отец, ясное дело – настоящий. Я» приехал, чтобы повидаться с вами, просто жить без вас не мог. Да, да, после стольких лет. Ты на меня зла не держишь, верно? Конечно, черт-те чего только не успело случиться в жизни, но не будем злиться друг на друга. Повидаемся завтра? Как, прямо сейчас? Где? Разыскать тебя? Сейчас выхожу.
Уан отшвыривает телефон и бросается на улицу, где уже почто рассвело. Я обессиленно падаю на диван, зарываюсь лицом в подушку, пахнущую Перфекто Ратоном, – на ней он привык проводить сиесту. Не в силах сдержаться, я безутешно плачу, душа моя, как набухшая почка гвоздичного дерева, распустила крылышки, готовая вот-вот раскрыться. Я плачу, как не плакала никогда в жизни, слезы льются ручьями, потоками – целый ливень, – как будто мир отторгает меня за мое незаслуженное счастье, пусть и отравленное мрачным предчувствием, потому что человек не в силах вынести столько блаженства сразу, столько легкости, столько правды… растворенной, само собой, в приличной дозе лжи. Как быстро человек забывает все плохое и привыкает к хорошему! Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как ушел Уан, вероятно, довольно много. А я все реву и никак не могу с собой справиться. Но вот снизу доносится настойчивое гудение автомобильного клаксона. Выглянув в окно, я застаю самое великое и волнующее зрелище в моей жизни: Мария Регла с отцом выходят из машины, в обнимку пересекают набережную и машут руками, чтобы я к ним присоединилась. Прежде чем отойти от окна, я ненадолго замираю, завороженная красотой Гаваны, словно сошедшей с почтовой открытки: окаймляющие залив здания похожи на корабли, воздух трепещет, как вуаль, которую колышет солоноватый ветер. В выемках скал мальчишки устроили свои убогие лягушатники – пляжи для черни. В раскаленном сердце города появляются его обитатели – тени на залитых солнцем улицах. Их томит городская суета, их манит морская свежесть, вонь гниющей рыбы, покрытый мхом и водорослями парапет набережной, запах смолы, от которого широко раздуваются ноздри. Какой-то невыразимый внутренний зуд говорит о бестрепетном желании молодых парней уехать отсюда куда подальше, но за ними зорко следит пограничный маяк. Граница – это навевающий влажную тоску океан. Гавану моей молодости скрыли волны. Гавана – нечто обнаженное и кровоточащее, как царапина на колене или зерно, сбросившее оболочку. Но даже такая, болезненная, в пенном гное прибоя, она прекрасна. Прекрасна красотой девочки-подростка, которую отчим отхлестал по щекам. Обольстительна, как разрез на коже, которому кровь придает сходство с глубокой раной разверстых половых губ. Не знаю, почему вдруг все это пришло мне в голову. Будь у меня под рукой карандаш, я бы это записала, чтобы сохранить воспоминание о том, что когда-то показалось мне красивым. В мыслях у нас скрыто много прекрасных слов, потом они куда-то исчезают, и мы не можем задержать их и никогда не сможем вернуть. Там, внизу, меня ждут моя дочь, мой муж, мой город. Чего еще можно ждать от жизни? Чувствуя, что вот-вот описаюсь от волнения, я стремглав сбегаю по лестнице. Они поит, любовной парочкой прижавшись к парапету, голова ее покоится у него на плече. Он – воплощенная нежность – обнимает дочь за талию. Я так волнуюсь перед тем, как перейти набережную – ведь любой грузовик в одно мгновение может превратить меня в отбивную. Но наконец я рядом с ними, двумя моими Любовями, отрекшимися от меня. Мы идет втроем обнявшись, целуясь без удержу. Но при этом настороженные, недоверчивые, как кошки. Словно ожидаем удара когтистой лапы – разлуки, предательства. Присев на парапет спиной к морю, мы смотрим, как город понемногу приходит в чувство, золотисто-влажный, обновленный, словно больной, который долгие годы был в коме, но вот наконец начинает реагировать на свет дрожанием иск и жалуется, что тот режет ему глаза. По мере того, как день растет и вздымается, точно взбитые сливки, вся горечь, какую довелось нам изведать, тоже мало-помалу подступает к горлу.
Глава девятая
Разочарования
Тысяча разочарований твоих
разочарованья в тебе не искупят.
Страдай ты хоть тысячу лет,
так страдать, как я, ты не сможешь.
(Авт. Perte Тусет. Исп. Ла Лупе)На сегодняшний день среди немногих переживших бури времени и множества новоизобретенных дворцов в Гаване три считаются главными: ла Сальса, дворец Рево-поллюции и дворец Генерал-губернаторов. Именно в таком порядке. В шесть утра Уана вдруг разбирает желание посетить дворцы, дочка объясняет, что посмотреть первый и последний еще можно, но что касается второго – никак. Уан насмешливо улыбается: для него нет ничего невозможного. Никто и ничто не в силах воспрепятствовать его желаниям. Реглита рекомендует ему прислушиваться к советам, потому что в противном случае можно не дожить до старости. Уан высокомерно ответствует, что ни разу в жизни не доверялся ни одному советчику или советнику – пусть себе сотрясают воздух – и что это было весьма полезно для его здоровья. Когда над Гаваной встает рассвет, то это совсем особое зрелище – во всех других уголках планеты просто рассветает, здесь же на заре кажется, будто город восстает из морских глубин или спускается с неба, весь высеченный из монолита и влажный. Так вот, во время этого гаванского рассвета моей парочке пришло в голову прогуляться по городу. Не стоит объяснять, что за всю прошедшую ночь, равно тревожную во всех отношениях: эмоционально-семейном, болезненно-социальном и катастрофически-экономическом (все из-за проклятого доллара, ставшего яблоком раздора), Кука Мартинес, Мария Регла и Уан не сомкнули глаз. Однако усталости они не чувствуют; напротив, еще более энергичные, чем обычно, они спрыгивают с парапета набережной, чтобы пройтись-проехаться по гаванским улицам, так как часть пути они проделывают пешком, а часть едут на «мерседесе», официально поступившем в распоряжение Уана на весь срок его почетного и заслуженного пребывания в стране. Куда бы они ни направлялись, за ними, как приклеенные, тащатся их преследователи или, если угодно, телохранители. Первым делом Уан приглашает свою старинную подругу и дочь позавтракать в отеле «Насьональ». Когда они проезжают мимо «Капри» и кабаре «Салон Рохо», Уана обуревают чувства, достойные настоящего мужчины и мафиози. Он скрипит зубами и стонет, глядя на некогда гостеприимный мир, теперь повернувшийся к нему с угрюмым оскалом. Он видит агонию того, что в дни молодости являлось объектом приложения его неуемных сил и порочных наклонностей.
Раньше Мария Регла ни за что не согласилась бы заходить в те места, которые предназначены для туристов, и вообще не снизошла бы до того, чтобы признать родного отца. Но моральные травмы, выпавшие на ее долю за время самостоятельной жизни, словно в отместку за былой политический фанатизм, все больше склоняют ее к мнению, что живем-то один раз и что с помощью смертоносного лозунга «родина или смерть» удалось достичь лишь уничтожения целой культуры, целого народа, короче говоря, целого острова. Кроме того, уже несколько световых лет она не завтракала – сначала не было возможности, а потом утратилась и сама привычка. Не успеваем мы переступить порог роскошного отеля, как тут же превращаемся в мишень для агрессивных взглядов, одни из которых полны подозрительности, другие – зависти, словом, чувствуем себя крайне неловко. Кука и Мария Регла судорожно нащупывают свои амулеты от дурного глаза. Присутствующие, кто открыто, кто исподтишка, буравят их взглядами, при этом каждый высматривает свое, будь то минетчицы, полицейские сводники (не подумайте, что я случайно забыла поставить запятую между полицейскими и сводниками), настоящие иностранцы с ранцами за спиной, ложные – с пистолетами за поясом, коридорные служащие (из тех, что берут десять долларов за то, чтобы пару шагов протащить ваши чемоданы, а дальше – как знаете), официантки или уборщицы, изъясняющиеся на безупречном английском. Странное дело, у кубинцев вдруг обнаружилась склонность к иностранным языкам – до сегодняшнего дня почти все бегло говорили по-русски, но с тех пор, как иностранцам дали зеленую улицу, оказалось, что у последнего бездомного кота наготове линкольновский диплом. После скрупулезнейшего исследования любопытные понемногу теряют к нам интерес, так как удостоверились, что взять с нас нечего и никак-то нас не поэксплуатируешь, разумеется, в капиталистическом смысле слова. Ведь капитализм – это эксплуатация человека человеком. А социализм? То же, только наоборот. Короче говоря, враждебный шум утих и зловещие взгляды погасли. Их можно понять – слишком уж бросалась в глаза разница между бедной одеждой седовласой старухи, утомленным лицом девушки в заношенных до белизны джинсах и экстравагантным цветом волос Уана, который к тому же достал из кармана сотовый телефон и, демонстрируя всем, что он пользователь, принялся во всю мощь своего голоса болтать с кем-то в Манхэттене. Их усаживают за столик на террасе, откуда можно наблюдать великолепную растительность, похожую на зеленое преддверье лазурного моря, которое сливается с облаками прямо над кронами деревьев. Иностранный гость развязным тоном, почти по-хозяйски, заказывает апельсиновый сок, бутерброды с ветчиной и сыром и кофе с молоком для всей троицы. Желудки женщин выводят торжественную «Увертюру 1812 года», а руки и колени судорожно трясутся от плохо скрываемого волнения. Правое веко Карукиты дергается, словно у нее тик; у Детки Реглы нервной судорогой безобразно сводит верхнюю губу. Дует жаркий, навевающий дремоту ветерок; Уан снова набирает какие-то нью-йоркские номера, вновь отдает деловые распоряжения; мать с дочерью клюют носом и даже умудряются обслюнявить блузки. Наконец Уан решает прекратить переговоры с суровым и мятежным Севером и будит женщин, похлопывая их по коленям. Все трое робко улыбаются и обмениваются удивленными, присмиревшими взглядами. Теперь, когда уже сказаны все «люблю» и ласки первых часов поостыли, они не могут поверить, что сидят все вместе за изящным столиком из стали и стекла в пятизвездочном отеле «Насьональ», одном из самых красивых и дорогих в мире. Придется брать комиссионные с «Гавана-тур» – что бы они без меня делали, если б я не завлекала для них пассажиров. Трудно начинать разговор, никому не хочется распространяться о прошлом. К чему снова копаться в дерьме. Но Куке Мартинес дико, во что бы то ни стало хочется исповедаться в своей страсти – в тридцати с лишним годах едва ли не безупречной верности и любви.