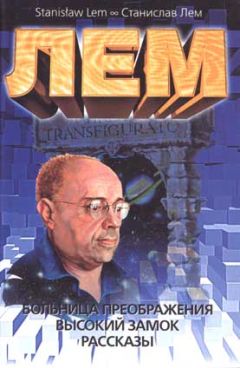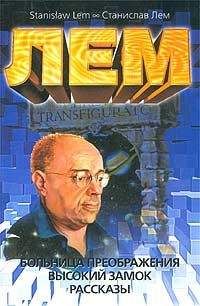— А ты… — Солдат поднял шарообразные кулаки.
Дверь распахнулась, сильно толкнув его в спину.
— Was machts du hier? Rrrraus![54] — рявкнул Гутка.
Он был в каске, автомат держал в левой руке, словно собирался им кого-то ударить.
— Rune! — крикнул он, хотя все и так молчали. — Sie bleiben hier sitzen, bis Ihnen anders befohlen wird. Niemand darf hinaus. Und ich sage noch einmal: Solten wir einen einzigen versteckten Kranken finden… sind Sie alle dran[55].
Он обвел всех своими выцветшими глазами и круто развернулся на каблуках. Раздался хриплый голос Секуловского:
— Herr… Herr Offizier…[56]
— Was noch?[57] — рявкнул Гутка, и из-под каски выглянуло его загорелое лицо. Палец он держал на спусковом крючке.
— Man hat einige Kranken in den Wohnungen versteckt…[58]
— Was? Was?![59]
Гутка подскочил к нему, схватил за шиворот и начал трясти.
— Wo sind sie? Du Gauner! Ihr alle![60]
Секуловский затрясся и застонал. Гутка вызвал вахмистра и приказал обыскать все квартиры в корпусе. Поэт, которого немец все еще держал за воротник халата, торопливо, пискливым голосом проговорил:
— Я не хотел, чтобы все… — Он не мог пошевелить руками: рукава халата впились ему под мышки.
— Herr Obersturmfuhrer, das ist kein Arzt, das ist Kranker, ein Wahnsinniger![61] — завопил, соскакивая со стола, смертельно бледный Сташек.
Кто-то тяжело вздохнул. Гутка опешил:
— Was soil das? Du Saudoktor?! Was heisst das?![62]
Сташек на своем ломаном немецком повторил, что Секуловский — больной.
Незглоба весь сжался у окна. Гутка, разглядывал их всех; он начал догадываться, в чем дело. Ноздри у него раздувались.
— Was fur Gauner sind das, was fur Lugner, diese Schweinehunde![63] — проревел он наконец, оттолкнув Секуловского к стене.
Бутылка с бромом, стоявшая на краю стола, покачнулась и упала на пол, разбилась, содержимое растекалось по линолеуму.
— Und das sollen Arzte sein… Na, wir werden schon Ordnung schaffen. Zeigt cure Papiere![64]
Вызванный из коридора украинец — видимо, старший, на его погонах были две серебряные полоски, — помогал переводить документы. У всех, кроме Носилевской, они оказались при себе. Под конвоем солдата она отправилась наверх. Гутка подошел к Каутерсу. Его документы он разглядывал дольше и немного помягчел.
— Acli so, Sie sind ein Volksdeutscher. Na schon. Aber warum liaben Sie diesen polnischen Schwindel initgemacht?[65]
Каутерс ответил, что он ничего не знал. Выговор у него был жестковат, но это был хороший немецкий язык.
Носилевская вернулась и показала удостоверение Врачебной палаты. Гутка махнул рукой и повернулся к Секуловскому, который все еще стоял за шкафчиком, у самой стены.
— Komm[66].
— Herr Offizier… ich bin nicht krank. Ich bin vollig gesund…[67]
— Bist du Arzt?[68]
— Ja… nein, aber ich kann nicht… ich werde…[69]
— Komm[70].
Теперь Гутка был совершенно невозмутим, даже слишком невозмутим. Он вроде бы даже улыбался — громадный, плечистый, в плаще, скрипящем при каждом его движении. Он манил Секуловского указательным пальцем, как ребенка.
— Komm.
Секуловский сделал один шаг и вдруг повалился на колени.
— Gnade, Gnade… ich will leben. Ich bin gesund[71].
— Genug! — яростно взревел Гутка. — Du Verrater! Deine unschuldigen verruckten Bruder hast du ausgeliefert[72].
За домом громыхнули два выстрела. Зазвенели стекла в окнах, в шкафчике металлическим позвякиванием отозвались инструменты.
Секуловский припал к сапогам немца, полы белого халата разлетелись в стороны. В руке поэт еще сжимал резиновый молоточек.
— Франке!
Вошел еще один немец и с такой силой рванул руку Секуловского, что поэт, хотя и был толст и высок, подскочил с колеи, словно тряпичная кукла.
— Meine Mutter war eine Deutsche!!![73] — визжал он фальцетом, пока его выволакивали из аптеки. Он успел уцепиться за дверь и рвался обратно, судорожно извивался, не решаясь, однако, защищаться от ударов. Франке стал деловито постукивать прикладом автомата по пальцам, впившимся в дверной косяк.
— Gnaaade! Матерь Божия!.. — выл Секуловский. Крупные слезы катились по его щекам.
Немец начинал выходить из себя. Он застрял на пороге, потому что Секуловский вцепился теперь в дверную ручку. Немец обхватил его обеими руками, присел, напрягся и изо всех сил дернул поэта на себя. Они вылетели в коридор. Там Секуловский с грохотом повалился на каменные плитки, а немец, прикрывая за собой дверь, повернул к врачам вспотевшее и побуревшее от напряжения лицо.
— Dreckige Arbeit![74] — сказал он и захлопнул дверь.
Под окном аптеки все заросло, поэтому в помещении было сумрачно. Чуть поодаль, за деревьями, вздымалась глухая стена. Вопли больных и хриплые крики немцев долетали сюда приглушенными, но все равно слышно их было отлично. Чуткий, обостренный слух врачей уловил звуки винтовочных выстрелов. Поначалу частые, они прерывались только шумом падающих мягких мешков. Затем установилась тишина. Кто-то пронзительно закричал:
— Wei-tere zwan-zig Figuuu-ren![75]
Пули защелкали по стене. Порой тоскливый, резко обрывавшийся свист сообщал о полете заблудившейся пули. А то вдруг опять раздавался короткий стрекот пулемета. Но чаще подавали голос автоматы. Затем тишина нарушалась топотом множества ног, монотонным криком:
— Wei-tere zwan-zig Figuuu-ren!
…И два-три пистолетных выстрела, звонкие и короткие хлопки, словно пробка вылетала из бутылки.
Раздался пронзительный рев, не похожий на человеческий. А сверху, как будто со второго этажа, донеслись рыдания, похожие на хохот. И долго не смолкали.
Глаза у всех были отсутствующие, никто не шевелился. Стефан совсем отупел. Поначалу он еще пытался о чем-нибудь думать: что Гутка, которому все это явно не по зубам, тем не менее как-то с этим управляется… что даже у смерти есть своя жизнь… но эту, последнюю мысль пронзил резкий немецкий окрик. Кто-то убегал. Трещали ломающиеся ветки, красные листья повалили на землю, совсем рядом послышалось прерывистое дыхание и щелкание камушков, вылетавших из-под ног беглеца.
Словно раскат грома, пророкотал выстрел. Крик резко взмыл в небо и оборвался.
Быстро пролетавшие облака, беспрестанно меняющие очертания, затянули видимый краешек неба. После десяти выстрелы стихли. Что-то вроде перерыва. Но через четверть часа застрекотали автоматы. И вновь все вокруг огласилось воплями больных и хриплыми криками немцев.
В двенадцать уши врачей различали только звук тяжелых шагов вокруг корпуса, собачий лай и сдавленный женский писк. Неожиданно дверь, на которую они уже перестали обращать внимание, распахнулась. Вошел вахмистр украинцев.
— Выходить, выходить швыдко! — закричал он с порога. За его спиной показалась каска немца.
— Alle raus![76] — крикнул он, до предела напрягая голос.
На его потемневшем лице пыль перемешалась с потом, глаза пьяные, бегающие.
Врачи вышли в коридор. Стефан оказался рядом с Носилевской. Было пусто, только в углу валялась куча смятых простыней. Длинные, размазанные черные полосы тянулись к лестнице. За поворотом, впритык к батарее, лежало что-то большое: сложившийся пополам труп с разбитой головой; из нее сочилось что-то черное. Сморщенная желтая ступня вылезла из-под вишневого халата и протянулась до середины коридора. Все старались обойти ее стороной, только немец, замыкавший процессию, пнул сапогом эту окоченевшую ногу. Фигуры идущих впереди людей, показалось Стефану, качнулись в разные стороны. Он схватил Носилевскую за руку. Так они и добрались до библиотеки.
Тут все было вверх дном. Книги из двух ближайших к двери шкафов валялись на полу. Когда врачи проходили мимо, страницы огромных томов, раскрывшихся при падении, зашелестели. Двое немцев поджидали их у дверей и вошли последними. Немедля заняли самое удобное место — обтянутый красным плюшем диванчик.
В глазах у Стефана рябило. Все вокруг подергивалось, было каким-то серым, краски будто выцвели, а предметы сморщились, словно проколотый пузырь. Первый раз в жизни с ним случился обморок.
Придя в себя, он почувствовал, что лежит на чем-то мягком и упругом: Носилевская положила его голову себе на колени, а Пайпак держал его задранные вверх ноги.
— Что с обслуживающим персоналом? — спросил Стефан; он еще плохо соображал.
— Им с утра приказали идти в Бежинец.
— А мы?
Никто не ответил. Стефан встал, его пошатывало, но он чувствовал, что больше сознания не потеряет. Шаги за стеной; все ближе; вошел солдат.
— Ist Professor Lion-kow-sky hier?![77]
Тишина. Наконец Ригер прошептал:
— Господин профессор… Ваша магнифиценция…
Когда немец вошел, профессор, сгорбившись, сидел в кресле — теперь он выпрямился. Его глаза, огромные, тяжелые, ничего не выражавшие, переползали с одного лица на другое. Он вцепился в подлокотники и, с некоторым трудом поднявшись, потянулся к верхнему карману пиджака. Пошарил ладонью, что-то там ощупывая. Ксендз — черный, в развевающейся сутане пошел было к нему, однако профессор сделал едва заметный, но решительный знак рукой и направился к двери.