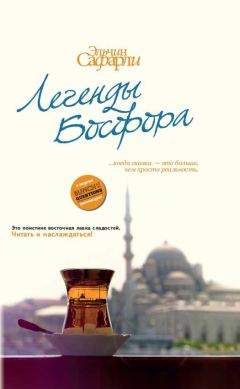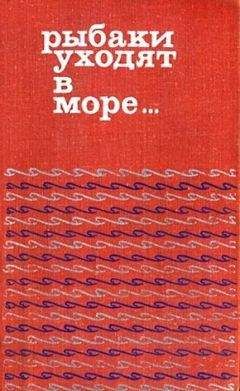Где-то внутри, на кончике обиды, желаю, чтобы умерли его якобы любимая жена и две дочери. Пусть они уйдут навсегда, а он — останется один. И обязательно найдется тот, кто посмотрит на него таким же жалостливым взглядом, каким он унижает меня.
Когда-то я любил, ждал тебя, шел за тобой, не замечая того, что моя любовь опережает разум. Сейчас мне безразлично твое существование. Странное это безразличие, состоящее из остатков сумасшедшей любви и примеси лютой ненависти. Зачем ты рвешь на куски мое сердце? И совершаешь это с такой сладостной миной проповедника, что я не могу понять: ты мне друг или враг?…
«Перестань быть посмешищем. Неужели не понятно, что люди тебя никогда не примут? Решил обречь себя на вечные страдания? Конечно, окончательный выбор за тобой… Ты должен быть нормальным. Слышишь, нор-маль-ным! Против масс не попрешь. Лучше потрать эти силы на развитие своих преимуществ, вместо того чтобы тратить их на выпячивание недостатков». Он продолжает говорить, я уже ничего не слышу. Разбиваю бутылку с лимонадом о камень, ухожу. Зеленая шипучая жидкость растекается по сухой летней земле, несколько секунд течет вслед за мной, но на полпути впитывается в почву…
…Отчетливо помню тот день. Вплоть до самой подсознательной мысли. Поэтому и описал его в таких подробностях. Знаешь, что самое печальное во всем этом? До сих пор беспокоят слова Саида, моего троюродного брата. С возрастом они все громче отзываются в моем сознании, особенно когда вижу в парках родителей, играющих с детьми. Грусть, рожденная мыслью «в моей жизни такого не будет». Если раньше я мечтал о ребенке, то теперь отказался от этой мечты. Калечить малыша своей неполноценностью? Представляешь, родительский инстинкт проявляется во мне тоской по материнству…
Каждый месяц езжу в детский приют, куда правительство определило детей иракских беженцев, осиротевших уже на нашей земле. Заказываю в каком-нибудь ресторане сытный мясной обед, прямо в горячем виде везу воспитанникам. Устраиваем коллективную трапезу. Я смотрю на этих одиноких малышей, и меня охватывает вселенская обида на того, кто определяет наши судьбы. Обида, описать которую можно несколькими словами. «Я ведь мог бы стать хорошей матерью». Увы… Буду продолжать ездить в детский дом, общаться с тамошней ребятней, зализывать свою вечную рану…
В какой-то мере я даже восхищаюсь Саидом. Он заглушил в себе зов природы. Ведь я неспроста с детства любил его, еще одного изнеженного, умного мальчишку нашего рода. В нем было то же, родное мне, начало, но он сумел подавить его. Книжками, учебой, поступлением в американский университет, женитьбой, двумя детьми… Не знаю, какое решение правильное. Знаю только, что все подавляемое рано или поздно прорывается. А может, это говорит моя злость или зависть.
25
— Они научили меня относиться к грусти как к главному вдохновителю жизни, заставляющему двигаться дальше. Они запрещали плакать по утраченному: «о нем достаточно помнить в сердце». Они призывали не закрывать за собою двери жизни, оставлять включенным свет в коридорах прошлого: «чтобы тот, кто незаметно шел за тобой, смог протянуть руку с надеждой». Они не скрывали разочарования в любви, утверждая, что «у человека одна суть — одиночество, но даже в нем расцветает счастье, например, от поцелуя любимых детей»…
Я учился жизни у них — самых обычных женщин Востока. Многие из них даже не ходили в школу, не знают таблицу умножения, не разбираются в науках, а про да Винчи, например, уточнят: «Это, что ли, магазин одежды?» Но в них есть то, чего не почерпнешь из книг и не услышишь в переполненных аудиториях университетов. Жизненная мудрость. Редкий дар, ничем его не заменишь…
Вот послушаешь меня, и кажется, будто восточные женщины специально усаживали меня перед собой, давали уроки по житейской мудрости. Конечно же нет! Я усваивал то, что им казалось вполне заурядным, наблюдая, прислушиваясь, запоминая. Высказывания, взгляды на ту или иную ситуацию, движения рук, мимика, даже раскуривание сигареты тайком от мужчин. Я становился частью их, сам того не замечая.
И они считали меня частью своей «коалиции». Хотя что потерял представитель мужского пола в чисто женском обществе? Они называли меня своим, особо не противились тому, что я среди них. Лишь иногда бабушки иронично удивлялись: «Сынок, твои сверстники на охоту поехали, а ты с нами сидишь, тесто нарезаешь. Смотри, пиписька убежит…»
А мои молоденькие тети, подсушивая кизил на чугунной сковороде, становились на мою защиту, подмигивая весело, мол, принеси-ка папиросок из отцовских запасов. «Бабуль, да отстань от малыша! Если бы не он, мы бы без помощи остались. Кто воды из колодца натаскает? Кто казаны из чулана поднимет? Кто хну просеет? Наш спаситель…»
Женщины доверяли мне. В моем присутствии велись и интимные разговоры. Обсуждали методы того, как не залететь — кусочек мыла в вагину, и никакой беременности. Пытались определить признаки оргазма, о котором многих из них слышали, но никогда не ощущали. Ругали мужей, «нахватавшихся всякой пошлости». «Представляете, девочки, — краснея и понижая тон, говорила тетушка Неджла, — мой Азим всю ночь умолял ртом его поласкать… Как же это?! Совсем стыда лишился». — «А вот Абдулла уже год ко мне не притрагивается. По вечерам заявляется сытый, довольный, сразу дрыхнуть идет. Неужто к вдове с Нижней улицы бегает? Надо нам собраться, сделать этой стерве внушение». Женщины одобрительно гудят. «Ой, девочки, а меня вообще от этого тошнит. Ну не могу я, а он требует! Насильно берет… Брезгую. Потный, жирный. Как отец отдал меня за такого? Но и дороги назад нет: куда я пойду с четырьмя детьми?!»
С ними я обретал свободу. Становился тем, кем являюсь внутри. Одной из них. Восточной женщиной, правда, в мужском обличии. До сих пор больше доверяю женщинам — лучшим творениям Аллаха… Многие думают, что геи ненавидят женщин. Это заблуждение. Только самый не уверенный в себе гомосексуалист видит в женщине врага. А вот соперницу, между прочим, вполне возможно…
26
— Как-то все резко оборвалось между ними. Те нити взаимного уважения, которые связывали отца с матерью, неожиданно разорвались с громким треском. В один миг. Бах — и все! Этому, кажется, не предшествовали ни споры, ни скандалы. Трагедия с Назирой, конечно, отразилась на нашей семье, но, как я уже говорил, мне о ней было ничего не известно — оставалось догадываться о причинах раздора.
Отец начал побивать маму. Все чаще, больше. Безжалостно, с особой жестокостью, будто в нем давно копилась черная желчь, и вот она стала выплескиваться наружу. Чуть не каждую ночь, вернувшись домой, он заходил в спальню, запирал дверь на ключ, будил мать, бил ее. Никаких криков не было, ни стонов, ни призывов на помощь. Она терпела, не издавая ни звука. И отец не ругался, не кричал, не обзывался. Просто бил. Я слышал только треск, глухие удары. Через некоторое время звуки из спальни стихали. На цыпочках подкрадывался к двери, прислушивался. Сквозь отцовский храп различал редкие всхлипы. Женский плач…
Мне тогда было пятнадцать. Я не понимал, что происходит между родителями, кроме того, что происходит страшное, непоправимое. В одно утро я решился поговорить с отцом. Стиснув за спиной дрожащие руки, твердым как мог голосом сказал ему: «Если ты еще раз прикоснешься к маме, я убью тебя». Он рассмеялся, взял за меня за шиворот, отбросил в сторону. «Гаденыш! Ты еще смеешь рот открывать?! Убить тебя мало».
Выбора не было. Впрочем, осознавал я тогда мало, просто накрыло горячей волной ярости. Я со злыми слезами набросился на отца, как зверь, изо всех начал лупить кулаками по его мощной груди. «Ты мне никто, слышишь, никто!!! Хватит нас мучить!.. Будь ты проклят!» Он стоял без движения, широко расставив богатырские ноги, да сверля меня ледяным взглядом. Как будто он давно для себя все решил, обрубил все концы. Пиала с черными оливками опрокинулась, и они медленно, одна за одной, скатывались с темно-зеленого стола под старый диван с битыми кусками кирпича вместо ножек…
На крики прибежала мама. Заклиная всем святым, оттащила меня. «Сынок, прекрати! Это же твой отец… Успокойся!» С силой обняла меня, отлепила от отца, медленно увела на кухню. Он посмотрел на нас с разочарованием, процедив напоследок: «Лучше бы ты умер, чем…» Голос у него чуть дрогнул, и в этот же момент он судорожно сорвал куртку со спинки стула. Вышел шумно, громыхая сапогами.
Мама еще долго меня успокаивала, а я ее уговаривал сбежать вместе. «Сынок, я не могу. Ты еще многого не понимаешь. У каждого своя ноша. Знаешь, в других семьях еще больше горя. Вот только вчера на горной дороге разбились единственный сын Амины из второго дома и трое ее внуков — бедная женщина поседела вмиг… Благополучие для каждого свое, Аллах свидетель. Я ведь люблю твоего отца, несмотря ни на что. И выходила замуж за него по любви, а всех моих подруг выдали насильно. Знаешь, не быть любимым — это совсем не трагедия, а вот не уметь любить — хуже этого ничего быть не может…