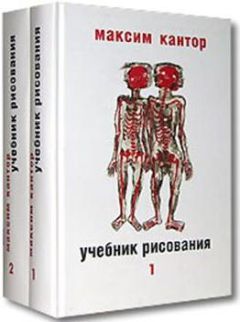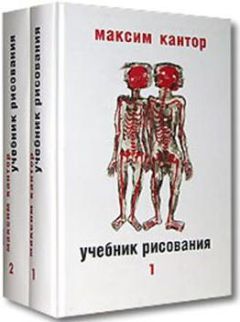Струев спросил, где лестница, но Поставец ничего не ответил — смотрел перед собой: на то, что было Шиздяпиной, Франком Стеллой, ранним Стремовским, великим Бойсом. Галерея была покрыта обломками и трухой, в центре помещения сидел на стуле галерист с дикими глазами, изо рта его тонкой струйкой стекал винегрет.
Струев перешел к опусам Дутова — кляксы и брызги по грязному холсту, дискурс свободы. Порвал холст Дутова и двинулся дальше. Японский мастер Кавара — листочки бумаги, на них через трафарет набиты бессмысленные слова. Струев порвал листочки. Телевизор — и в нем крутится видеопрограмма Билла Виолы — человеческое лицо то удлиняется, то расширяется. Струев разбил телевизор. Небольшая вещица Ле Жикизду — он сломал и ее.
Струев прошел по галерее из конца в конец, сломал последнее, обнаружил дверь, за ней еще одну, за дверьми — лестницу.
Не спешить, никогда не спешить. Он огляделся, не осталось ли чего, заметил уцелевший холст с квадратиками, порвал. Вот за дверью еще кружочки и закорючки. Порвал и этот холст. А это что за дрянь? Может, от ремонта ящик с мусором остался — а вдруг произведение искусства? Сегодня не поймешь. Он разбил ящик с мусором, разбросал мусор по полу.
V
Внизу кто-то был, он услышал движение. Струев шел вниз, медленно спускался по ступеням и улыбался своей обычной, волчьей улыбкой. Он немного устал, пока ломал произведения искусства, и поэтому спускался медленно, чтобы успеть отдышаться. Он вобрал в себя воздух, вдохнул его через сжатые зубы. Один вдох, второй. Он так делал всегда, когда хотел собрать силы.
Пятеро? Их всего-навсего много. Пятеро — это пустяки.
Он нащупал ногой пол подвала и двинулся вперед — к человеку, который ждал его в темном подвальном коридоре. За спиной первого человека Струев увидел другую тень, потом и вторая тень приблизилась. Струев шел им навстречу ровным легким шагом, улыбаясь, как привык улыбаться опасности.
Струев не умел драться, но он обладал иным качеством, которое знал за собой и которое всегда выручало его, — непобедимостью. Он не умел проигрывать. Его упорство и желание выиграть любой ценой жили в нем всегда, просто без надобности он не вспоминал о них. Но стоило подумать о поражении, о том, что он не сумеет, не дойдет, не сделает, — как внутри все налилось знакомой злой силой. Она существовала в нем сама по себе, эта злая сила, и когда она вырастала в нем, то ничего, кроме нее, не оставалось, ни памяти, ни страха — организм лишь подчинялся и выполнял команды. Он давно понял, что стоит позвать внутри себя эту силу, и с ним невозможно будет справиться. Струев шагнул вперед, зная, что победит.
— Не тогопись, товагищ, — сказал первый, пародируя ленинский акцент, и даже руки в проймы жилета заложил и ножку вперед отставил, как на памятнике. Второй, усатый, в это время достал из кармана нож с розовой перламутровой рукояткой. — Попгошу пгитогмозить! — прокаркал человек-памятник. Не останавливаясь, не сбавляя шага, Струев махнул свинчаткой. Свистнула цепь, и свинчатка легла на бритую голову. Струев перекрутил цепь в руке и ударил снова, с силой всадил свинчатку в бритый лоб. Памятник не закричал, не покачнулся, только вцепился обеими руками в цепь, вырывая свинчатку, и, едва Струев отпустил свой конец, как он повалился на пол, и кровь потекла у него из уха. Струев дал цепочке сорваться с запястья, и та свернулась медной змейкой подле расколотой бритой головы. Струев не поглядел на него — он продолжал идти вперед, на другого, того, который держал нож
Струев увидел, как человек размахнулся и как нож летит ему в грудь. Он не умел уворачиваться и не стал бы, если бы умел. Злое, упорное сознание удачи, которое всегда говорило ему, что он все сумеет и все стерпит, сказало это и сейчас. Пусть ударит, пусть сделает, что может, он сможет немного — и потом я отвечу, так сказал себе Струев. Он не стал уворачиваться, но только напряг свое длинное волчье тело, ожидая удара и зная, что выдержит удар. Он будто видел себя со стороны — желтые глаза и оскаленный рот, он знал, что тому, с ножом, страшно, и даже страшнее, чем ему самому. Удар пришелся в середину груди, нож вошел в него, и жар прошел по его телу. Он почувствовал, как нож уперся в кость, и перестал думать о ноже. Видимо, нож не задел ни сердца, ни печени, а про прочие органы Струев не знал. Нож торчал в его теле, но тело продолжало стоять и было способно к движению. Струев посмотрел на усатого человека, державшего нож за розовую рукоятку, и растянул губы в обычной своей щербатой ухмылке. Его дыханье сделалось ровным, желтые глаза превратились в щели. Он отвел руку для удара и ударил; бил наотмашь, метя в висок и зная, что убьет. Его худая, как плеть, жесткая, как палка, рука хлестнула справа налево, и весь неизрасходованный запас злости, желчи, нерастраченной энергии вошел в этот удар. Он увидел, как попал в висок человеку, услышал хруст удара, и человек еще не начал падать, как Струев понял, что проломил ему голову и убил его.
Он перешагнул через тело и едва не упал, споткнувшись. Вдруг все внутри обмякло, закружилась голова. Он подержался руками за сырую стену подвала и выплюнул кровь, которая отчего-то набралась во рту. Он выплюнул ее с силой, но сил хватило только на то, чтобы протолкнуть кровавый сгусток сквозь губы, и кровь потекла вниз по подбородку, по шее. Струев почувствовал, что сейчас упадет и противиться этому не может. Тогда он с силой втянул воздух сквозь кривые желтые зубы и снова сделался сильным. Он повторил этот прием дважды, втягивая тухлый подвальный воздух сквозь сжатые зубы. Он выпрямился, и злая упрямая сила привычно влилась в него. Он не шатался больше, он стоял крепко, зная, что все сможет, что он один сильнее всех.
Он улыбнулся темноте своей страшной улыбкой. Машина, которую он из себя делал годами, снова работала, и шестеренки снова сцепились зубьями. Теперь машина работала ровно, и Струев чувствовал, как надежно и гулко стучит внутри него мотор. Теперь порядок, подумал он. Что же я время теряю, сказал он. Он, никогда не забывающий деталей, хотел нагнуться за свинчаткой, но побоялся упасть, если нагнется. Ничего, подумал он, обойдусь. Пока я на ногах, я могу все, подумал Струев. Он шел подвальным коридором, битый кафель лязгал под ногами. Стало темнее.
Струев прошел вперед, и тогда навстречу ему шагнуло сразу трое, три тени закачались перед ним; они двигались неторопливо, охватывая его с боков. Струев не остановился, не стал присматриваться к новым врагам. Он только сказал себе: их всего трое, низко же они меня ценят. Могли бы послать пятерых. Кураж не проходил, но сквозь кураж подступала дурнота, и дурнота пересиливала кураж. Струев продолжал идти вперед и руку опять отвел для удара; он скалился в улыбке, но тени совсем не боялись его. Он теперь сам понимал, что его уже никто не боится. Кончилась его великая минута. Кинутся сразу со всех сторон, теперь пропал, подумал Струев. Неправда, ничего не кончилось, ответил он себе. Машина работает, и шестеренки крутятся. Давай. Надо идти вперед и бить среднего. Не успею. Хотя уже близко. Еще бы немного, еще бы три шага. Плохо, что ничего не видно. Совсем не видно.
Он сделал еще шаг вперед. Плохо, что один. А когда я был не один? Никогда. Смогу и один. Всегда мог. И сейчас могу. И он повторил про себя свою любимую присказку: их всего-навсего много, а я — целый один. Справлюсь.
Он шатнулся от слабости, решимость вместе с силами вдруг стала выплывать из него, сделалось жарко и слабо; его мутило. И тогда он снова проделал над собой этот трюк: сквозь кривые зубы втянул воздух и сжал внутри себя свое естество, подчинил его воле и злости. Он не приказывал себе, он просто сжимал в себе себя самого, зная, что, пока он владеет собой, он непобедим. Он возвращал себе кураж, втягивал его внутрь себя, сквозь кривые зубы. Что они могут против меня? Ничего не могут. Я сильнее. Никто ничего не может. Я один могу. Вперед.
Его ударили по затылку, он упал вперед на чей-то кулак, и удар в лицо распрямил его. Он махнул кулаком в ответ, и никуда не попал. Он махнул другим кулаком, бил, что есть сил, и не попал. Опять ударили сбоку по шее, он не видел, откуда пришел удар. Он ударил в ответ, в пустоту, туда, где за его плечом стоял враг. Он знал, что попал, но не видел, в кого. Его развернуло в сторону от второго удара по шее, и сразу же опять ударили по затылку. Струев повалился ничком, и человек, стоявший перед ним, поймал его за плечи у самого пола, придержал и коленом снизу ударил в лицо: раз, потом еще раз, потом еще. Он перехватил Струева за волосы, чтобы было ловчее бить, и, держа струевскую голову, как отдельный предмет, бил ею себя об колено, пока не устал. Потом разжал руку, державшую волосы, и Струев упал.
Три человека, стоявшие над Струевым, смотрели, как он ворочается на полу, подтягивает колени к животу, встает на четвереньки. Он вставал очень долго. Давай, сказал себе Струев, вставай. Давай, сказал он себе снова, и люди, стоявшие над ним, услышали, как человек внизу шепчет: давай. Струев стоял на четвереньках, задрав голову. Тот, что стоял напротив, поднял ногу и, упершись подошвой ему в лицо, вытер об лицо подошву. Этого несильного толчка хватило, чтобы Струев опять повалился на бок. И снова он сказал себе: давай. Вставай. Он некоторое время полежал на боку и опять подтянул колени к животу, встал на четвереньки. В сумраке подвала он не различал людей, не знал где они, только чувствовал подошву на разбитом лице. Он опять завалился на бок и лежал, втягивая воздух сквозь сломанные кривые зубы. Вместе с воздухом он втягивал кураж и знал, что сейчас соберется и встанет. Сейчас. Вот сейчас он встанет. Я все смогу, сказал он себе. Три тени раскачивались над ним, делаясь все больше, все черней.