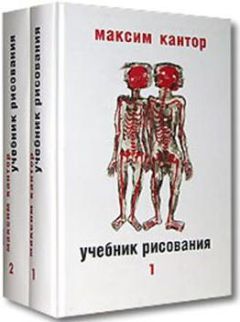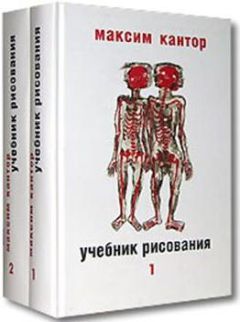Струев прошел вперед, и тогда навстречу ему шагнуло сразу трое, три тени закачались перед ним; они двигались неторопливо, охватывая его с боков. Струев не остановился, не стал присматриваться к новым врагам. Он только сказал себе: их всего трое, низко же они меня ценят. Могли бы послать пятерых. Кураж не проходил, но сквозь кураж подступала дурнота, и дурнота пересиливала кураж. Струев продолжал идти вперед и руку опять отвел для удара; он скалился в улыбке, но тени совсем не боялись его. Он теперь сам понимал, что его уже никто не боится. Кончилась его великая минута. Кинутся сразу со всех сторон, теперь пропал, подумал Струев. Неправда, ничего не кончилось, ответил он себе. Машина работает, и шестеренки крутятся. Давай. Надо идти вперед и бить среднего. Не успею. Хотя уже близко. Еще бы немного, еще бы три шага. Плохо, что ничего не видно. Совсем не видно.
Он сделал еще шаг вперед. Плохо, что один. А когда я был не один? Никогда. Смогу и один. Всегда мог. И сейчас могу. И он повторил про себя свою любимую присказку: их всего-навсего много, а я — целый один. Справлюсь.
Он шатнулся от слабости, решимость вместе с силами вдруг стала выплывать из него, сделалось жарко и слабо; его мутило. И тогда он снова проделал над собой этот трюк: сквозь кривые зубы втянул воздух и сжал внутри себя свое естество, подчинил его воле и злости. Он не приказывал себе, он просто сжимал в себе себя самого, зная, что, пока он владеет собой, он непобедим. Он возвращал себе кураж, втягивал его внутрь себя, сквозь кривые зубы. Что они могут против меня? Ничего не могут. Я сильнее. Никто ничего не может. Я один могу. Вперед.
Его ударили по затылку, он упал вперед на чей-то кулак, и удар в лицо распрямил его. Он махнул кулаком в ответ, и никуда не попал. Он махнул другим кулаком, бил, что есть сил, и не попал. Опять ударили сбоку по шее, он не видел, откуда пришел удар. Он ударил в ответ, в пустоту, туда, где за его плечом стоял враг. Он знал, что попал, но не видел, в кого. Его развернуло в сторону от второго удара по шее, и сразу же опять ударили по затылку. Струев повалился ничком, и человек, стоявший перед ним, поймал его за плечи у самого пола, придержал и коленом снизу ударил в лицо: раз, потом еще раз, потом еще. Он перехватил Струева за волосы, чтобы было ловчее бить, и, держа струевскую голову, как отдельный предмет, бил ею себя об колено, пока не устал. Потом разжал руку, державшую волосы, и Струев упал.
Три человека, стоявшие над Струевым, смотрели, как он ворочается на полу, подтягивает колени к животу, встает на четвереньки. Он вставал очень долго. Давай, сказал себе Струев, вставай. Давай, сказал он себе снова, и люди, стоявшие над ним, услышали, как человек внизу шепчет: давай. Струев стоял на четвереньках, задрав голову. Тот, что стоял напротив, поднял ногу и, упершись подошвой ему в лицо, вытер об лицо подошву. Этого несильного толчка хватило, чтобы Струев опять повалился на бок. И снова он сказал себе: давай. Вставай. Он некоторое время полежал на боку и опять подтянул колени к животу, встал на четвереньки. В сумраке подвала он не различал людей, не знал где они, только чувствовал подошву на разбитом лице. Он опять завалился на бок и лежал, втягивая воздух сквозь сломанные кривые зубы. Вместе с воздухом он втягивал кураж и знал, что сейчас соберется и встанет. Сейчас. Вот сейчас он встанет. Я все смогу, сказал он себе. Три тени раскачивались над ним, делаясь все больше, все черней.
Расчетливый ум Семена Струева, который продолжал работать, даже когда тело умирало, сказал ему, что еще можно победить. Нет такой ситуации, которую нельзя было бы изменить. Случайностей нет. Нельзя проиграть случайно. Любой случай можно вывернуть наизнанку и переиначить. Любую неудачу можно выправить до правильной истории. Судьбу можно изнасиловать. Подумаешь, упал. Встану. Кровь толчками выходила у него изо рта: накапливалась в гортани и выплескивалась через разломанные зубы. Гордость и сознание избранности всегда обманывали Струева; обманули они его и на этот раз. Ему все еще казалось, что достаточно неколебимой уверенности в победе — и можно победить. Ничего, сказал он себе, это пустяки. Сейчас я встану. Лежа ничком, сломанный и раздавленный, он по-прежнему считал себя победителем, то есть тем, кто распоряжается ситуацией и может повернуть ее так, как захочет. Если кто-нибудь придет сюда, думал Струев, ему будет трудно справиться сразу с тремя. Значит, одного я должен еще свалить. Вот этого, с ребристой подошвой. Еще немного терпенья. Еще немного. Они не ждут удара. А я могу все. Давай, поднимайся. Он медленно подтягивал колени к животу.
Человек, стоявший над Струевым, тот, что бил струевской головой о свое колено, а потом пинал его в лицо, крупный мужчина с висячими усами, по кличке Сникерс, смотрел сверху вниз на то, что еще оставалось от Семена Струева. Он наблюдал, как полуживой человек копошится у его ног, как медленно подбирает колени к животу, как шарит по полу рукой, ища опору. Он решил позволить Струеву встать на колени и уже потом бить ногой по голове, и, приготовившись к хорошему удару, к настоящему, окончательному удару, отставив немного назад ногу, Сникерс терпеливо ждал.
И сам Струев понимал, что его сейчас ударят, дадут встать на колени — и ударят. Я выдержу, подумал он. Пусть бьет, этот удар я пропущу. Я всегда пропускаю первый удар — мне не жалко. Что мне его удар? Пустяки. Если ты по-настоящему силен, ты можешь пропустить удар. Он всегда давал другим этот совет, посоветовал так и себе. Я выдержу этот удар, думал он, а потом прыгну, не дам ему опомниться. Я успею, думал он, я всегда был быстрее всех. Они не знают, сказал он себе, что я все могу. Они не ждут, что во мне остались силы. Никто не знает, сколько во мне сил. Тело не слушалось его, но он терпеливо собирал свое тело по частям: подтягивал ногу, сгибал руку. Ничего, что медленно, думал он, в последний момент я прыгну. Он упирался щекой в пол подвала и втягивал воздух сквозь сломанные зубы. Все решается последним рывком. Вот сейчас я прыгну, думал он, еще немного. Кровь выливалась у него изо рта, и жизнь выходила из него. И одновременно с тем, как жизнь толчками, сгустками выливалась из Струева, как силы безвозвратно выходили из его тела, сознание его прояснилось совершенно, и он отчетливо видел свою задачу, и план действий был ясен. Теперь пора. Как обычно стремительный, он подтянул левую ногу к животу, а тот человек, что стоял сверху, видел, как медленно и жалко тащится по полу сломанная нога. Пора, сказал себе Струев. Он еще раз втянул в легкие соленый от крови воздух. Привычное чувство победы собралось в нем, он сжал кулак. Пора.
Три тени нависли над ним. Неожиданно появилась четвертая. Из темноты ступила фигура, длинная, худая, с большими руками, и глухой голос произнес:
— Вы ко мне?
Александр Кузнецов шагнул вперед и протянул к Сникерсу свои страшные руки.
Настоящее искусство можно опознать по тому воздействию, какое оно оказывает на зрителя. Настоящее искусство — это такое, которое проникает в сердце и душу, заставляет переживать. Лев Толстой определял это свойство через термин «заражать». Зритель испытывает волнение, он сопереживает мыслям и чувствам, что в произведении явлены; несомненно, существуют переживания такого рода, которые делают человека лучше. Если переживания касаются нравственности, совести, ответственности, правды — а искусство способно провоцировать такие переживания, — то такого рода переживания развивают ум, укрепляют душу, врачуют сознание. Все великие картины, известные человечеству, производят именно этот оздоровительный эффект. Укрепление души есть неоспоримый критерий подлинности искусства — и, если произведение ему не соответствует, значит, оно не выполняет обязательной своей задачи. Следует отметить, что вторая половина ушедшего столетия не пользовалась данным критерием.
Изделие может быть любопытным, развлекательным и декоративным — но никак не воздействовать на душу и сердце. Такое изделие не имеет отношения к гуманистическому искусству. Существует также иной критерий, его сформулировал мой отец. Философская система, им созданная, учит следующему. Произведение искусства содержит код бытия, проект жизни. Идеи сострадания и любви, феномен свободы, история мысли и духа — все это сконцентрировано в произведении искусства, закодировано в нем — наподобие того, как в двойной спирали ДНК содержится генотип человеческой личности. В сжатом виде в подлинном произведении искусства присутствует, таким образом, вся история человеческого рода. Даже если случится катастрофа, и род человеческий прекратит существование, произведение искусства может быть использовано для того, чтобы восстановить историю — то есть воскресить людей. Иными словами, произведение искусства обладает такой эманацией духа, которая способна творить природу, и великий проект обладает силой оживлять материю. Это и есть предназначение искусства — обусловить новую эволюцию, на иных основаниях, не материальных, но духовных. Это и есть та гарантия, которую дает искусство миру, — обещание новой жизни, более справедливой и гуманной. В этом именно состоит проект всемирной истории. Ради этого работает художник.