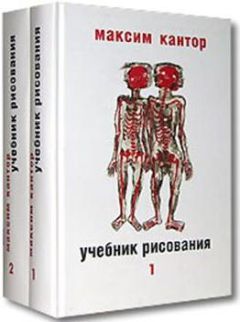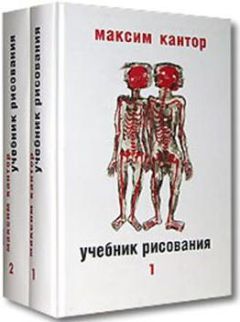Ситуация, при которой весь мир оказывается в неоплатном долгу у западной цивилизации, признается как прогрессивной, однако не дай бог, чтобы все новые клиенты банка потребовали обналичить свои расписки. Ни милосердия, ни сострадания, ни величия, ни ясности цели, ни значения отдельной личности (того, что было провозглашено уставным капиталом культуры) выдать им не собираются, да и не могут. В условиях постоянной финансовой интервенции допечатано безмерное количество банкнот и роздано неимоверное количество кредитов — но покрыть этот кредит решительно нечем. Собственно банковское дело от такой политики страдает. Банк, который не в состоянии покрыть свои обязательства, либо должен объявить себя банкротом, либо перейти под государственное покрытие — тем самым ликвидировав непосредственную ответственность перед вкладчиком. Так теряется основная константа западной культуры: интимное отношение человека к традиции, персональный долг культуры по отношению к каждому. Вкладчик не может снять своих средств в банке, но он должен поверить в государственную политику необеспеченных кредитов, иначе говоря, он должен доверять отныне не самой культуре, но цивилизации, культуру представляющей. Этот процесс передачи полномочий культуры — цивилизации и есть то, что в экономических терминах описывается как государственный контроль над банковским делом. Такие кризисы уже случались неоднократно (любое имперское развитие их провоцирует), они могут завершиться как революцией (т. е. ситуацией, когда вкладчики требуют обналичить кредит), так и признанием государством несостоятельности банковских гарантий. Государство может принять на себя долги банка (как оно поступает в случаях дефолта) и выдавать гражданам сбережения по иным, самим государством обозначенным стандартам, но это уже не будет иметь отношения к банковской деятельности. Уже не культура и ее ценности (музеи, библиотеки, принципы морали и т. п.), а закон выживания цивилизации диктует условия обществу. Иными словами, экстенсивный характер развития цивилизации ведет к внутренним изменениям самой культуры, так же как усиление интервенции государства на рынках заставляет государство встать над банком и лимитировать развитие банковской системы.
Выражаясь проще и короче, противоречие развития состоит в следующем. Банк существует одновременно и как финансовый институт государства, и как место доверительных отношений банкира с вкладчиком. Культура существует одновременно и как мотор цивилизации, и как сфера накопленных общечеловеческих ценностей, принадлежащих каждому. Ради движения вперед одна из ипостасей приносится в жертву. Государство заинтересовано в использовании банка как финансового института, цивилизация заинтересована в использовании культуры как мотора. И в том, и в другом случае интимный характер отношений с вкладчиком (то есть то, что служило главной характеристикой западного общества) утрачивается.
В ходе экстенсивного развития теряется гарантия того, что общество воспроизводит себя в виде, тождественном первоначальному замыслу. Кредит, выданный одним обществом другому, по замыслу, сулил увеличение территорий того общества, которое давало кредит. Однако если в ходе операции и по причине этой операции само это общество перестало быть собой — то ради чего афера была затеяна?
V
Хроника подошла к концу, осталось рассказать немногое.
В частности, следует рассказать о представлении, данном, как и было обещано, в Большом театре — знаменитом бенефисе Сыча и хорька.
Представление действительно состоялось через месяц после мрачных событий, описанных выше. Сыч к тому времени вышел из больницы, и даже хорошее настроение будто бы вернулось к нему. Он радостно жал руку Ситному, обнимался с Леонидом Голенищевым, доставившим к Большому театру грузовик коллекционного бордо, троекратно расцеловался с Ростроповичем и, по обычаю маэстро, тут же выпил с ним на брудершафт и перешел на «ты». Ростропович привез с собой именитых друзей, которые тут же и были представлены Сычу: герцог Кентский — пьяный человек с растрепанной бородой, который назвался Мишей и, достав из кармана бутылку, сделал добрый глоток; музыкант Элтон Джон — полный пожилой мужчина, одетый в розовое трико, обшитое рубинами; президент торгового дома «Гермес» — старик, распространяющий вокруг себя тяжелый запах духов; и генеральный секретарь ООН Кофи Анан, его обязанности в качестве главы Организации Объединенных Наций свелись до минимума, но открывать концерты еще позволяли.
Иными словами, Сыч вышел на мировой уровень — какие еще нужны доказательства? И тут нельзя не отметить, что именно бескомпромиссная позиция в искусстве и сделала ему имя. И сэр Элтон Джон, с его нетрадиционной сексуальной ориентацией, и президент Кофи Анан, борец за права человечества, — разумеется, они были привлечены именно теми проблемами, которые поднял Сыч в своем творчестве. А то, что Сыч пережил личную трагедию, так это, как заметил Петр Труффальдино, лишь свидетельствует об истинности его творчества, о его сингулярной партикулярности, или, если точнее, сингулярной парадигмальности.
Аркадий Владленович Ситный взволнованно бегал от гостя к гостю, с энтузиазмом жал руки, целовался со всеми и сиял. Пробегая мимо Сыча, он всякий раз шептал ему в ухо жаркими полными губами: вот видишь! И Сыч кивал в ответ. Он и сам был возбужден, улыбался и отвечал на шутки. Но временами точно от боли искажалось лицо его и мрачный огонь вспыхивал в его глазах.
Наконец расселись. Кофи Анан в ложе с герцогом Кентским, напротив, в другой ложе, старик Гермес с министром Ситным, напомаженные дамы, Тахта Аминьхасанова и Белла Левкоева, в патере, сэр Элтон Джон в оркестровой яме — он хоть и не играл, но уселся средь музыкантов подле молоденького гобоиста и тискал ему колено. Конферансье объявил знаменитый перформанс и неожиданно для всех даже дал ему название: «Естественный отбор». Гости переглянулись. Почему — естественный отбор? Кто придумал название? Зачем? А впрочем, что-то в этом есть, если подумать. Бархатный занавес (покрытый затейливой вышивкой по эскизам Гузкина) раздвинулся. Зал замер.
В качестве музыкальной темы, сопровождавшей представление, была избрана вещь неожиданная — известное сочинение великого композитора Прокофьева «Петя и волк».
Мстислав Леопольдович царственным движением поднял смычок, тронул струны, и пронзительная прокофьевская нота зазвучала в зале. Вы знаете этот момент, когда зал замирает, а великий маэстро только лишь прикасается к струне? Эта первая летящая нота, как щемит она сердце! Кофи Анан откинулся на спинку кресла и вытер белым платком фиолетовое лицо. Герцог Кентский спрятал бутылку — искусство не терпит суеты. Вот уже полилась мелодия, вот пришла в движение рука маэстро, вот уже качнулся завороженно зрительный зал, следя за волшебным смычком. И тут, собственно, и произошло само представление.
На сцену вышел хорек. Зрители увидели не политического деятеля, не искрометного телеведущего, не законодателя мод — но просто животное: хорек вышел не в обычном своем напудренном виде, в костюме от Ямамото, но голый, шерстяной, с оскаленной пастью. Хорек остановился на авансцене, глядя в зал маленькими красными глазками, которые неожиданно показались толпе опасными и хищными, и некоторым зрителям стало не по себе под этим взглядом. Не похож был этот взгляд на тот, коим популярный политик смотрел с экрана. И глазки не были подведены французской тушью, и остроумный блеск их куда-то подевался. Недоброе красное мерцание исходило из этих маленьких глаз, а мелкие острые зубы пощелкивали, а проворный язык облизывал приоткрытую пасть. Шерсть хорька стояла дыбом, когтистые лапки скребли паркет. Где же Сыч? Сыч медлил, на сцену не выходил. Вместо Сыча на сцену выскочила маленькая белая мышка и принялась бегать возле хорька. Зверь, подчиняясь инстинкту, кинулся на нее и растерзал. Зрители наблюдали, как хорек перекусил мышиный хребет, как задние лапки мыши судорожно дернулись, исчезая в кровавой пасти. Хорек чавкал, пережевывая мышиное мясо, и, усиленное акустикой зала, далеко по рядам разносилось чавканье — а под сурдинку, нежнейшими переходами оттеняла его волшебная виолончель Ростроповича. И тут-то на сцену вылетел Сыч. Причем вылетел почти в буквальном смысле слова, так как он был обряжен в сыча, то есть в ночную птицу, охотницу на хорьков. Его костюм был оклеен перьями, в волосах тоже торчали перья, а вместо когтей в руках художника сверкали длинные кухонные ножи. Почувствовав приближение возлюбленного, хорек оставил свою кровавую трапезу и повернулся задом, завиляв попой. Сыч, пританцовывая в каком-то неизъяснимом шаманском экстазе, устремился к нему. Как тут было не вспомнить сатурналии Нерона, когда император, наряженный сатиром, выбегал на сцену и совокуплялся с молодыми гладиаторами? Зрители, затаив дыхание, следили за этой откровенной сценой. Известный политик предстал перед ними в неожиданной звериной ипостаси; беззастенчивость, с какой участники представления демонстрировали свои инстинкты, шокировала. Но что есть искусство, как не срывание масок — в том числе масок культуры и ханжеской морали? Да, любовь — это и кровь, и животная страсть, и похоть, и не надо этого стесняться, наоборот. На сцену, на всеобщее обозрение решили вынести Сыч и хорек свою роковую, испепеляющую страсть. Однако акту любви не суждено было состояться. Сыч с характерным совиным уханьем напал на своего сожителя и страшными ударами ножей буквально искромсал хорька. Кто же мог ожидать такое? Менее всех — хорек. Клочья шерсти и кровавого мяса полетели в зал. Зверь хрипел и скрежетал зубами, скрюченными лапами норовил достать убийцу, Сыч ухал и с каждым уханьем наносил удар. Летал смычок в руке Ростроповича, летали ножи в руках Сыча, хлестала кровь со сцены в партер, музыка, пронзительная музыка эмигранта Прокофьева проникала в сердца зрителям. Люди повскакали с мест, чтобы не пропустить ничего из происходящего. Когда Ростропович опустил смычок, а Сыч — ножи, в зале воцарилась такая тишина, какая бывает лишь в церкви да на кладбище. Мышь была растерзана хорьком, хорек был убит сычом, — в этом, видимо, и состоял замысел перформанса, потому и названо представление «естественный отбор»; здесь было над чем поразмыслить; и тут случилось самое страшное, то, чего никто не мог предвидеть. На сцену вышел гомельский мастер дефекаций, обряженный в костюм сказочного охотника — он как раз приехал с гастролей в Баварии: на нем были баварские кожаные шорты, гетры, замшевая курточка с вышивкой, тирольская шапочка с перышком, через плечо ягдташ, в руках двустволка. Сказав «хенде хох!» и тщательно прицелившись в человека-сыча, охотник выпалил из обоих стволов, и художник Сыч рухнул на пол. Заряд волчьей дроби, коим были набиты патроны двустволки, выпущенный практически в упор, выбил Сычу оба глаза, пробил лобные доли и оторвал левое ухо. Кровь художника смешалась с кровью хорька.