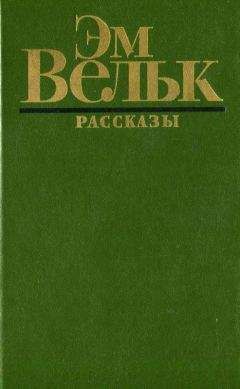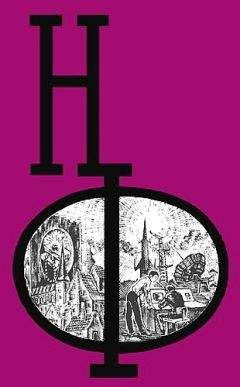Вот так Генрих Грауманн вел свою войну с третьим рейхом, и вел ее, надо сказать, небезуспешно. С этим Адольфом, к которому он теперь обращался всегда в высшей степени почтительно, Генрих сумел опять привлечь на свою сторону многих односельчан. Если его предупреждали, чтобы он не рисковал опять из-за быка, он с улыбкой показывал пачку писем, которыми обменивался с окружным фюрером. Из этих писем он вычитал нечто вроде одобрения своих действий. Он почтительнейше спрашивал у окружного фюрера, может ли он:
а) держать быка, учитывая, что он оказался недостоин своего прежнего быка, или же он деятельностью своего быка как бы совершает осквернение расы, поскольку его бык не наследственное крестьянское имущество. И не должен ли он его ликвидировать, хотя бык у него — чистокровный ариец, чего нельзя сказать о двух коровах местного фюрера, так как они бесспорно были куплены у еврейского скототорговца Фридмана. А что касается:
б) имени нового быка, так он назвал его Адольфом. Разрешено это или запрещено? И неужели имя Адольф более значительно, чем имя Генрих, которым община назвала его первого быка? Он со своей стороны должен оспорить тот факт, что имя Адольф благороднее, нежели имя Генрих. Совсем даже наоборот, ведь Генрихом в Германии называли и королей и императоров, а Адольфом не звали ни одного даже самого захудалого маркграфа. И если такое имя для его быка недопустимо, то он просит:
в) уведомить его, дабы он переименовал быка. И так как он теперь вынужден быть бережливым, он хотел бы переписать только четыре буквы на табличке в хлеву и таким образом сделать из Адольфа Адама. Против этого имени уже нельзя возразить — ведь это имя первого человека, от которого, как гласит Библия, произошли все остальные люди, как ариец Адольф, так и еврей Авраам.
На сей раз странным образом все ограничилось лишь строгим предупреждением. Местный фюрер всем давал понять, что скоро придет время стереть с лица общины это позорное пятно, согнать Генриха с земли и передать хозяйство его старшему сыну Людвигу. Возможно, так бы и случилось, но тут Гитлер начал войну и старший сын Генриха Грауманна стал солдатом.
Они побеждали в Польше и побеждали в Дании, в Норвегии, Голландии, Бельгии и Франции, на Балканах и в Африке, и вполне во вкусе Генриха Грауманна было то, что после Данцига, Праги и Вены «историю и тут, на Востоке, привели в порядок».
— Я, видите ли, и вправду нехорошо обошелся с фюрером, но все это только потому, что между нами то и дело встревали эти чертовы чиновники. Нам бы полчаса времени — мы бы с ним друг друга поняли. О чем бы мы говорили? О солдатах! Потому как фюреру с самого начала кое-что не нравилось. И мне тоже. Фюрер никогда бы не заткнул лейб-гвардию в окопы. А уж раз он ведет для нас победоносную войну, я желаю ему победоносного мира. Германия превыше всего!
Желание победоносной войны и мира возникло не только в солдатском сердце Генриха Грауманна, нет, так же сильно было это желание и в его крестьянском сердце. Окружные власти призвали крестьян хлопотать о распределении завоеванных на востоке земель — там можно бесплатно получить надел в несколько сот моргенов. Генрих Грауманн долго колебался, не должен ли он ходатайствовать о выделе земли на Востоке для своего второго сына Фридриха и для зятя. Вспыхнувший было стыд пересилила жажда земли, но как раз в момент, когда ощущение, будто совершается нечто не слишком порядочное, было окончательно подавлено разглагольствованиями о заслуженном вознаграждении для наших героических солдат и он наконец написал просьбу о предоставлении трехсот моргенов земли в пойме Варты его сыну Фридриху, обер-фельдфебелю, отмеченному многими военными наградами, была проиграна битва за Сталинград. Просьбу пока что пришлось отложить, а Генрих Грауманн опять переменил убеждения. Правда, менял он их все-таки весьма осмотрительно. «Очень уж он зарвался» — так выразился Генрих о «своем друге и друге всех солдат» Адольфе. Но потом это размежевание пошло уже полным ходом. И ускорили его меры, принятые местным фюрером, который ни на грош не доверял Генриху и опять донес на него. А дальше настало двадцатое июля тысяча девятьсот сорок четвертого года, уже был открыт второй фронт и русские вступили на землю Германии. Немцы сотнями тысяч хлынули с востока Германии в Померанию и Мекленбург. И вот как-то вечером, когда несчастные беженцы сидели в доме у Генриха Грауманна, к супу им была подана еще одна приправа:
— Что это значит: наши солдаты не устояли? Немецкий солдат — лучший в мире! Только вот что ему делать, если он плохо вооружен, плохо кормлен и к тому же им плохо командуют, а?
Генрих Грауманн, как и большинство пожилых людей в деревне, все еще был «непобедим на поле брани».
В начале апреля тысяча девятьсот сорок пятого года война докатилась и до Клеббова. Части СС установили перед деревней пушки, жерлами в сторону поля, и всех гражданских лиц вышвырнули из деревни. Красная Армия уже была у Одера. Генрих Грауманн отправил с колонной беженцев на запад двух дочерей и тещу с внуками, а сам спрятался на чердаке в хлеву: он хотел остаться в деревне. Местный фюрер и бургомистр, все еще бдительно следивший за своим врагом, выдал его СС, а поскольку Генрих категорически отказался покинуть деревню, чернорубашечники решили выдворить его силой. Штурмфюрер хотел даже не долго думая расстрелять его, так как в ответ на высказанное подозрение, что он-де, наверно, заодно с русскими, Генрих ответил:
— Так оно и есть. Только вчера получил от Сталина открытку с приказом. Мне велено следить, по какой дороге эсэсовцы собираются маршировать из Клеббова в Россию.
Так как части СС, расположенные в Клеббове, совсем недавно отступили из Курляндии в Среднюю Германию, штурмфюрер усмотрел в словах Генриха подрыв обороноспособности, выхватил пистолет и крикнул:
— К стенке, сволочь!
Тут Генрих смекнул, что дело плохо, и тоже заорал:
— Что я тут делаю? Что ж мне, родную скотину одну в деревне оставить, на голодную смерть?
— Уж о скотине-то мы позаботимся! — закричал в ответ штурмфюрер.
И тут кто-то из эсэсовцев сказал:
— Ну, это вряд ли, если завтра нам отступать!
Штурмфюрер опустил пистолет, огляделся в хлеву, и взгляд его упал на быка и на табличку с именем над его головой — Адольф. Он задумался, а поскольку это было для него занятие не из привычных, далеко он в своих мыслях не ушел и после первого же шага встал в душе по стойке смирно: Адольф. Должно быть, этот крестьянин почитатель фюрера и просто привык побрюзжать. Но тут он увидел ухмылку на лице Генриха и вспомнил о доносе бургомистра. Он презрительно ухмыльнулся:
— Ну, эти-то заботы мы с тебя снимем! — И крикнул своим людям: — Этот бык совсем молодой! Сейчас мы его прикончим, а мясо возьмем с собой! — И чтобы показать наглому крестьянину, что штурмфюрер эсэсовского корпуса «Викинг» даже во время отступления хозяин над жизнью и смертью, он подошел к быку, поднял пистолет и выстрелил.
О том, что произошло дальше, никто ничего толком сообщить не мог. Они услышали два выстрела, а потом на дворе оказались лишь Генрих Грауманн и два эсэсовца. Бык и штурмфюрер остались в хлеву. Они только еще успели заметить, как после первого выстрела бык удивленно поднял окровавленную голову и уставился на своего противника, при втором выстреле он рванулся так, что цепь со звоном разлетелась, а потом огромная голова опять низко опустилась, зато штурмфюрер взлетел до самого потолка.
Когда через некоторое время в хлеву воцарилась относительная тишина, мужчины вошли туда, то есть первым должен был войти Генрих Грауманн с новой цепью. Он довольно долго говорил со своим Адольфом и, как ни странно, произносил только добрые, ласковые слова. Ему не пришлось потом оправдываться, что это была единственная возможность утихомирить разбушевавшегося быка, так как оба эсэсовца, слышавшие похвальное слово Генриха своему быку, не подумали усмотреть в них новую государственную измену. У них были другие дела: им надо было извлечь из хлева бесформенную массу, некогда бывшую штурмфюрером, представить рапорт и помочь организовать, несмотря на приближение противника, достойные похороны начальника, павшего на поле чести.
А потом эсэсовцы ушли из деревни, без быка, который довольно вяло лежал у себя в хлеву, и без Генриха Грауманна, которого по приказу оберштурмфюрера заперли в конюшне; он должен был все-таки предстать перед судом. Крестьянин, знавший свою конюшню много лучше, чем они, сумел ночью улизнуть оттуда, а часовой, который стрелял ему вслед, мог только сказать, что, должно быть, все-таки ранил беглеца, ведь после выстрела тот упал как подкошенный, но найти его все равно не удалось. Пускаться на розыски не было времени — с юго-востока уже доносился гром орудий Красной Армии.