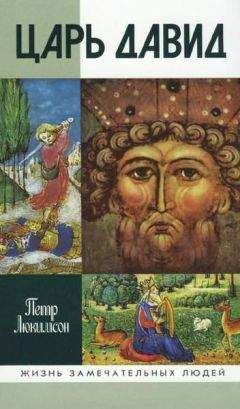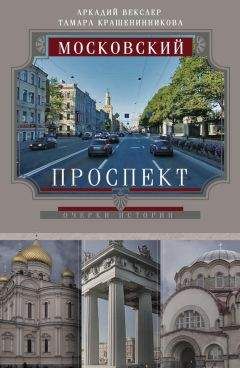– Здесь были портреты регентов… Но регентство кончилось…
– Молчать! – сказал комиссар. – Это тебя не касается… – И, обернувшись к залу, скомандовал:- Выходить всем, по два. Шагом – арш!
В зале поднялись крики:
– Не уйдем! Незаконно! Не имеете права распускать собрание! Да здравствует амнистия! Амнистия! Ам-нис-ти-я! Ам-нис-ти-я! – скандировали десятки голосов.
– Напрасно ты за нами увязался, – шепнул мне Милуца. – Они арестуют всех, кто выходит из зала. Ты ученик – может кончиться плохо…
Я и сам понимал, что попал в скверное положение. Если меня задержат и найдут справку министерства, все, ради чего я сюда приехал, полетит кувырком! Но думать об этом теперь было бесполезно. «Это незаконно!», «Долой!» – кричали в зале. У выхода началась свалка. Я увидел, что сидевшие впереди меня двое парней – один высокий в засаленной куртке, другой поменьше в темной кепке – устремились не влево, где был выход, а в противоположную сторону. Я смотрел им вслед. «Окно!» – мелькнула вдруг радостная догадка: там в стене есть окно… Я схватил Милуцу за руку и, ничего не объясняя, потащил за собой. Мы добрались до стены как раз в тот момент, когда высокий парень одним ударом выбил задвижку и распахнул окно.
Увидев меня, он дружелюбно усмехнулся:
– Лезь первым, ты поменьше… Не бойся – я поддержу!
Очутившись на подоконнике, я увидел зияющую черноту двора, заваленного ящиками, и услышал свист и крики где-то совсем рядом, за воротами.
– Скорей! – сказал парень в куртке и толкнул меня в спину.
Я прыгнул.
…Когда мы вместе с Милуцей выбрались со двора, на улице уже горели фонари, таинственно чернели фигуры редких прохожих, из открытых окон на тротуары падал желтый свет. Здесь, на окраине, вечер был тих, безлюден. Мы прошли вдоль развороченных трамвайных рельсов, свернули на пустую площадь и темными переулками добрались до общежития. Я прошел в столь знакомую шестую комнату, где я жил шпалтистом, и собрал свои вещи, в последний раз прислушавшись к сентенциям латинского права – их неутомимо зубрил все тот же студент с желтым лицом и опухшими от бессонницы глазами. Потом я попрощался со всеми и уехал на вокзал.
Минут за двадцать до отхода поезда, прогуливаясь по платформе, я увидел в окне вагона первого класса знакомую фигуру Рогожану. Я никак не ожидал, что встречу его вновь, да еще в моем поезде. Он зазвал меня к себе в купе. Оно блистало лаком, зеркалами и нежно-матовым светом молочных ламп. Министр был в отличном расположении духа, смеялся, шутил, интересовался моими бухарестскими впечатлениями и планами на будущее.
– А когда у вас будут Советы? – спросил он иронически-серьезным тоном. – Будущей весной?
– Не знаю, – сказал я. – Важно, что они будут…
– Ты вполне уверен? – спросил он.
– Вполне.
– Смотри, не ошибись, – сказал министр.- Молодой человек должен правильно выбрать свой путь в жизни.
– Да, конечно.
– То-то, – сказал министр. – А что нового в Советском Союзе?
– Почему вы меня об этом спрашиваете?
– Ну, все-таки вы там ближе – у вас лучше информация!
– Информацию можно найти и в Бухаресте,- сказал я и раскрыл портфель, в котором лежала книга, приобретенная у «Хасефера»: «Пятилетний план».
– Это о пятилетке? – спросил министр, небрежно перелистывая книгу.
– Да, о пятилетке.
– Смотри, не ошибись! – сказал Рогожану, возвращая мне книгу. – Кто ошибется дорогой, тот может все проморгать, – добавил он и стал смотреться в зеркало.
Я тоже посмотрел в зеркало и увидел сытое и задумчивое лицо министра. Очевидно, он размышлял над этой глубокой истиной.
Раздался звонок, и вагон вздрогнул от толчка.
– Ну, прощай! – сказал министр. – И смотри не ошибись. Кто идет против течения, тот может проморгать.
В августе сорок четвертого года, в день вступления Советской Армии в Бухарест, я проезжал на автомашине по бухарестским улицам. И вдруг увидел у витрины кафе «Капша» высокую, показавшуюся знакомой фигуру. Человек этот стоял одиноко и грустно смотрел на колонну танков, автомашин, броневиков. Я узнал его: это был Рогожану. По бледному лицу, по бегающим глазам бывшего министра было видно, что он ошибся дорогой…
Конец и начало Это было в конце лета, я до сих пор вижу и чувствую этот ясный, теплый день, безлюдные улицы, по которым прохаживались военные патрули, пустой парк с закрытыми киосками, тонкий аромат листвы на бульваре и кислый казарменный запах в коридорах трибунала, куда я явился с повесткой свидетеля защиты на процессе комсомольцев, арестованных весной. Появление на сонных улицах городка целого полка, приведенного в боевую готовность, посеяло страх и разноречивые слухи.
Власти побаиваются процесса, – значит, подпольная коммунистическая организация не разгромлена и еще возможны сюрпризы. Пока я добрался до трибунала, у меня трижды проверяли документы и ощупывали карманы. От всего этого в голову лезли отчаянные, сумасбродные мысли. Я даже представил себе нападение на здание трибунала, побег арестованных под выстрелы и крики полицейских. Ничего подобного, конечно, не произошло. Но то, что я действительно увидел, оказалось гораздо значительнее, чем мерещившиеся мне наивные романтические происшествия.
В коридоре суда я заметил невысокого мужчину средних лет, спокойно прогуливавшегося с большим кожаным портфелем в руках. В первую минуту ничто в его внешности, кроме красного галстука, не привлекало внимания: простое лицо, короткие и жесткие орехового цвета волосы, не поддающиеся гребенке, прямой нос и энергичный подбородок, но в голубых глазах, в выражении лица, в походке что-то спокойное, уверенное, решительное… Казалось, он совсем не замечал, с каким откровенным интересом и испугом пялили на него глаза сновавшие по коридору шпики, с какой ненавистью следил за ним полицейский комиссар, стоявший у входа в зал, как многозначительно смолкали, проходя мимо, судейские чиновники. «Рошу!1» – тихо произнес кто-то рядом, и звук этого имени заставил учащенно забиться мое сердце. Так вот он какой, известный бухарестский адвокат, постоянный защитник коммунистов, не побоявшийся приехать сюда и прийти на суд в красном галстуке! Я обернулся, еще раз взглянул на него. Он тоже почему-то оглянулся и неожиданно спросил:
– Вы свидетель?
– Да… Откуда вы знаете?
– Это не сложно: в деле только один свидетель – ученик. – Он заглянул в свою записную книжку и назвал мою фамилию.
– Это я…
– Отойдемте в сторону…
Мы подошли к окну. Уже с первых слов я с удивлением убедился, что он знает обстоятельства моего ареста не хуже меня, как будто присутствовал при допросе.
– Нужно, чтобы вы рассказали суду, как вас били в сигуранце.
Слово «нужно» он произнес с особым выражением, глядя мне прямо в глаза, и я почувствовал, что со мной говорит не только адвокат, но и товарищ.
– Хорошо…
– Учтите, вас будут перебивать и запугивать…
Он снова посмотрел на меня выжидательно-оценивающим взглядом. Я молчал. Мы понимали друг друга.
– Значит, вы скажете, что вас били?
– Конечно, скажу…
– Ну вот и отлично!
Он быстро пожал мне руку и улыбнулся. Теперь на его энергичном лице появилось выражение мальчишеской веселости и даже озорства; глаза его смеялись и, казалось, говорили: «Все будет хорошо! Не надо дрейфить!»
– Учтите, после того, как вы дадите показания, вы имеете право остаться в зале.
Они никого, кроме полицейских, не пропустили. Вы останетесь?
– Да, конечно…
– Ну вот и хорошо!
Когда он ушел, все вокруг переменилось: и душный коридор, и разгуливающие взад и вперед шпики, и бессмысленно вылупленные глаза солдат – все это мне вдруг показалось не таким страшным.
…Я не присутствовал при начале судебного заседания. Не удалось мне увидеть и обвиняемых; их привели сюда ночью и заперли в комнате, непосредственно сообщавшейся с залом суда. Но по лицам тех, кто выходил из зала, по беготне в коридоре, по испуганному выражению глаз судебного пристава, дежурившего у дверей, я понял, что там происходит что-то с их точки зрения неладное. Вскоре мое предположение подтвердилось. По коридору протопали, неловко задевая пол тяжелыми прикладами, человек десять солдат, приведенных с улицы, очевидно, на подмогу тем, кто уже был в зале. Когда их впускали поодиночке в полуоткрытую дверь, я услышал оттуда возглас на русском языке: «Да здравствует…», но судебный пристав тотчас захлопнул дверь, и голос замолк. Что это было? Я не мог догадаться. Надо подождать, пока я попаду в зал.
Судебный пристав назвал наконец мою фамилию, и я подошел к заветной двери.
Тревожное ожидание и боязнь, что я могу поддаться страху, когда предстану перед судом, обострили мои чувства. Войдя в зал, я оглянулся и вобрал в себя все увиденное; так оно и осталось навсегда в памяти резким, отчетливым снимком; небольшая комната с деревянными скамейками для публики и возвышением для судей, черное деревянное распятие на столе, черные мантии судей, их лица, выступающие из белых кружевных воротников: одно лицо толстое, красное, как сырое мясо, с маленькими торчащими кверху усиками, другое – старое, сухощавое, с ввалившимися щеками и отвислой нижней челюстью; красный галстук адвоката Рошу и, наконец, самое главное: дубовая решетка в углу, а за ней – обвиняемые, окруженные тюремными стражниками в черных и солдатами в зеленых мундирах; обвиняемых много, они еле вмещаются в узкий огороженный закуток; лица у всех одинаково серые, землистые, за исключением девушки в первом ряду, в белой блузке с короткими рукавами, с очень оживленными глазами цвета желудя, мальчишески остриженными каштановыми волосами – единственное светлое пятно на этой унылой серо-черной фотографии. Не успел я подойти к возвышению, на котором сидели судьи, как девушка подняла загорелую полную руку, красиво оттененную коротким рукавом белой блузки, и крикнула звонким, задорным голосом по-русски: