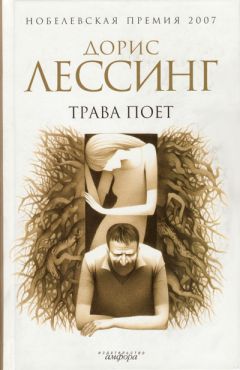— Нет, нет, нет. Я нисколько тебя не боюсь. — Мгновение спустя Мэри преисполнилась ярости на себя; она оправдывалась, допускала возможность того, чего вообще никогда нельзя было признавать.
Она увидела, как Мозес улыбнулся, а затем опустил глаза, посмотрев на дрожащие [318] руки хозяйки, лежавшие на коленях. Потом он медленно поднял глаза, тщательно всю ее рассматривая. От его внимания не ускользнула поза Мэри, которая сидела, втянув голову в плечи, плотно вжавшись в подушку, будто бы в поисках опоры.
— Почему мадам меня боится? — смело, фамильярно произнес он.
— Не говори глупостей, я тебя нисколько не боюсь, — нервно рассмеявшись, ответила она пронзительным, несколько истеричным голосом. Так она вполне могла бы разговаривать и с белым мужчиной, с которым решила немного пофлиртовать. Когда Мэри услышала слова, сорвавшиеся со своих губ, и увидела лицо Мозеса, то чуть не потеряла сознание. Он удостоил ее долгим, каким-то непонятным взглядом, после чего повернулся и вышел из комнаты.
С его уходом Мэри почувствовала себя так, словно прекратилась пытка, которой ее долго подвергали. Она сидела на диване без сил и, дрожа, вспоминала сон, пытаясь рассеять туман страха.
Через некоторое время Мэри взяла чашку и налила в блюдечко чая. И опять, точно так же, как и во сне, она заставила себя встать и отправиться в соседнюю комнату. Дик спокойно спал. Он выглядел лучше. Так и не до- [319] тронувшись до него, она вышла, оказавшись на веранде, и остановилась, облокотившись на прохладные кирпичи ограждения, вдыхая холодный утренний воздух. Солнце еще не взошло. Небо было ясным, окрашенным розоватыми мазками надвигающегося рассвета, однако среди неподвижных деревьев все еще таилась тьма. Мэри видела тоненькие столбики дыма, поднимавшиеся ввысь там, где сбились в кучу хижины поселения, и понимала, что ей надо пойти и ударить в гонг, дав сигнал к началу нового дня.
Весь день она, как обычно, просидела в спальне, наблюдая, как Дику час от часу становится все лучше. Впрочем, он все еще был слаб и не успел настолько оправиться, чтобы начать выражать недовольство.
В тот день Мэри не стала устраивать на ферме обход. Кроме того, она избегала Мозеса, осознавая, что слишком не уверена в себе и что сейчас у нее нет сил сойтись с ним лицом к лицу. Когда после обеда у туземца настало время перерыва и он ушел, Мэри в спешке отправилась на кухню, чуть ли не украдкой приготовила Дику холодное питье, после чего поспешила прочь, оглядываясь так, словно ее преследовали.
Вечером она заперла в доме все двери и легла в постель к Дику, радуясь его близости, [320] быть может, в первый раз за все время замужества.
Через неделю Дик снова вернулся к работе.
И снова быстро, один за другим замелькали дни, долгие дни, которые Мэри проводила дома в одиночестве с африканцем, покуда муж пропадал в полях. Мэри боролась с чем-то, чего сама не могла понять. С течением времени Дик становился для нее все менее реальным, а мысли об африканце — все более навязчивыми. Могучий чернокожий туземец все время находился с ней в доме, и Мэри было некуда скрыться от его общества, что стало для нее кошмаром. Женщина была им одержима, а на Дика практически не обращала внимания.
Все время, начиная с утреннего пробуждения, когда она видела туземца, склонившегося над ними с чаем и отводящего глаза, чтобы не видеть ее обнаженных плеч, и заканчивая тем моментом, когда он наконец уходил, Мэри пребывала в постоянном напряжении. Преисполненная страха, она делала свои дела по дому, стараясь не попадаться слуге на глаза. Если Мозес находился в одной комнате, Мэри шла в другую. Она не смотрела на него, поскольку знала, что если встретится с ним взглядом, то последствия для нее будут роко- [321] выми: и он, и она навсегда запомнили ее страх и тон, в котором она с ним разговаривала той ночью. Она взяла манеру отдавать распоряжения в спешке, натянутым голосом, после чего как можно скорее выходить с кухни. Мэри стала страшиться, что он с ней заговорит, поскольку в его голосе теперь слышались новые нотки: фамильярные, нагловатые, властные. Дюжину раз Мэри была на грани того, чтобы попросить Дика уволить Мозеса. Однако она так и не осмелилась совершить этот шаг. Всякий раз она останавливала себя, не в состоянии вынести приступ ярости, который непременно бы последовал за подобной просьбой. Она чувствовала себя словно в темном туннеле, и близился уже конец, нечто такое, чего она не могла представить, но что ждало ее с неумолимой неизбежностью. Судя по поведению Мозеса, по тому, как он двигался и разговаривал, по его смелым, самоуверенным, пугающим дерзостям Мэри понимала, что он тоже чего-то ждет. Они с ним походили на двух противников, молча сражающихся друг с другом. Разница была в том, что Мозес был полон сил и уверен в себе, а она ослаблена страхом, одержимостью и постоянными кошмарами, наполнявшими ее ночи.
[322]
Люди, которые, будь то вынужденно или по доброй воле, живут особняком и которых не волнуют дела соседей, всегда ощущают тревогу и беспокойство, если волею случая узнают, что другие перемывают им кости. В своих чувствах они уподобляются спящему человеку, который, пробуждаясь ото сна, обнаруживает, что вокруг его постели стоят взирающие на него незнакомцы. Тёрнеры, которые вряд ли бы уделяли меньшее внимание происходящему в округе, даже если бы жили на Луне, были бы потрясены до глубины души, узнав, что на протяжении долгих лет постоянно являлись поводом для неисчислимых слухов, которые распространяли фермеры, жившие окрест. Люди, которых Тёрнеры знали лишь по именам, и даже те, о которых они и вовсе никогда не слышали, с авторитетным видом в подробностях обсуждали Дика и Мэри. И все благодаря Слэттерам. Да, все дело было в Слэттерах, впрочем, можно ли их за это винить? Никто не верит в пагубность сплетен, за исключением тех, кому не повезло от них пострадать, ну а Слэттеры, если бы им бросили в лицо обвинение, с негодованием вскричали бы в ответ: «Мы рассказывали людям только лишь правду!», почувствовав при этом смуще[323] ние, свидетельствовавшее об осознании собственной вины. Миссис Слэттер должна была быть женщиной совершенно выдающихся качеств, чтобы и дальше беспристрастно и непредвзято относиться к Мэри, после того как та столько раз ее унизила своим пренебрежением. Миссис Слэттер неоднократно предпринимала попытки, как она сама говорила, «достучаться до Мэри». Отдавая себе отчет в неуемной гордыни Мэри (при том, что миссис Слэттер и сама была этим грешна), она раз за разом приглашала соседку то на праздник, то на партию в теннис, то на танцы. Даже после того как Дик заболел во второй раз, она попыталась положить конец обособленной жизни Мэри: доктор пугающе цинично отзывался о состоянии хозяйства Тёрнеров. Однако в результате миссис Слэттер получала от Мэри лишь формальные короткие записки (в отличие от всех остальных, Тёрнеры так и не поставили себе телефон, сочтя это слишком дорогим удовольствием) — супруга Дика словно бы специально не хотела замечать протянутую ей руку. Когда в дни завоза корреспонденции миссис Слэттер встречала Мэри в магазине, она с неизменной любезностью приглашала супругу Дика заехать как-нибудь к ним в гости, но та всякий раз холодно отвечала, что она бы с удовольствием, но «муж сейчас [324] очень занят». Впрочем, на станции уже давно не видали ни Дика, ни Мэри.
«Ну и что они учудили? » — спрашивал народ. В гостях у Слэттеров люди всегда интересовались тем, что натворили Тёрнеры. И миссис Тёрнер, чье терпение наконец подошло к концу, с готовностью об этом рассказывала. Добрых шесть лет назад все сплетни были о том, как Мэри сбежала от мужа. Чарли Слэттер добавлял перца, рассказывая, как Мэри явилась к нему в потертом платье и без шляпы, преодолев по вельду несколько миль пешком, да еще в одиночку (и это при том, что она женщина), и попросила подкинуть ее до станции. «Откуда я знал, что она сбежала от мужа? Она мне об этом не сказала. Я думал, Мэри собралась за покупками, а Тёрнер был слишком занят, чтобы подвезти жену. А потом, когда ко мне, слегка рехнувшись от волнения, примчался Дик, мне не оставалась ничего, кроме как признаться — я отвез ее, куда она просила. Не надо было ей убегать. Не поступают так». Теперь рассказ оброс фантастическими подробностями, изменившись до неузнаваемости. Согласно последней версии, Мэри сбежала от Дика посреди ночи, потому что он посадил ее под замок. Добравшись до соседей, она заняла у миссис Слэттер деньги, чтобы скрыться в городе. На следующее утро явился [325] сам Дик, который клятвенно пообещал впредь обращаться с Мэри подобающим образом. Теперь о случившемся, покачивая головами и цокая языками, рассказывали именно так. Однако, когда народ стал поговаривать, что Слэттер отхлестал Дика кнутом, Чарли не выдержал — это было уже слишком. Дик ему нравился, хоть Слэттер при этом и испытывал к нему презрение. Ему было жалко Дика, и Чарли стал рассказывать правду. Раз за разом он повторял, что Дику следовало отпустить Мэри. Сбежала — и скатертью дорога! Тёрнер сам не понимал, в чем его счастье. Постепенно, благодаря Чарли, отношение окружающих менялось. Теперь уже проклинали Мэри, а Дику вернули доброе имя. А ведь ни Дик, ни Мэри даже и не подозревали обо всех этих пересудах. Ничего удивительного, ведь на протяжении долгих лет они практически не покидали пределов фермы.