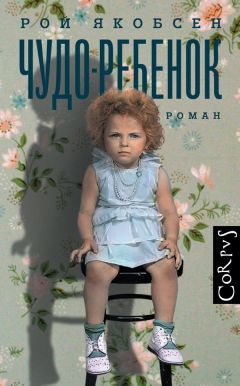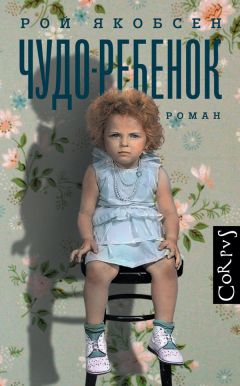Это был четвертый сигнал опасности. Или пятый…
Оказывается, шесть ее девиц уже получили подарок по дороге сюда, в поезде, еще до Рождества, чтобы они вели себя спокойно, пока мы поедим и можно уже будет распаковать основные подарки; бамбуковые палочки игры «микадо» были рассыпаны на кухонном столе, и раз за разом выигрывала Линда; ее ручонка была тверда как скала и всякий раз извлекала палочку из кучки, не задев ни одной другой палочки, и это было уж слишком: Марит не смогла удержаться и пустила в ход свои обычные уловки:
— А ты дотронулася! Я видала!
Линда, не в пример ей, полагалась лишь на свои большие удивленные глаза, которые действовали на окружающих куда лучше, чем экзотический диалект.
— Э-э, Марит-то наша проигрывать не умеет, — засмеялся дядя Тур, заглянувший на кухню, чтобы подлить себе сельтерской, и на ходу одобрительно погладил Линду по голове.
— Че, значит, я вру?!
— Ой, да не бузи.
— Ну-ка, Тур, не смей так с ней разговаривать, понял? — сказал дядя Бьярне, вошедший следом за Туром.
— Вот еще, к чертовой матери, как хочу, так и разговариваю, а проигрывать она не умеет!
— Не кипятись, братан, не то придется тебе попробовать вот этого, — сказал дядя Бьярне и поднес к его носу кулак в попытке разрядить обстановку, которая с течением дня становилась все более и более тягостной, словно мы крутились на разгонявшейся карусели. Дядя Тур расставил ноги в нечищенных туфлях чуток пошире, профессионально выдвинул вперед бедро и принялся пританцовывать по кухне, как вполовину похудевший шведский боксер Ингемар Юханссон, и бить джебом воздух перед пачками рафинада, банками с кофе, стоявшей на подоконнике, подрагивая листьями, бегонией и булькающей на плите кастрюлей мамкиной тушеной капусты; потом решительно обхватил мамку за талию и закружил ее в залихватском вальсе, напевая тему из «Третьего человека»; на физиономии же удачливого инженера бумажной фабрики отчего-то все отчетливее проступала ярость, мы все видели, что вот-вот случится что-то, но в конце концов это тетя Марит ухитрилась прошептать ровно так тихо, чтобы мы все смогли расслышать:
— Я же говорила, не надо было нам идти сюда в этом году.
— Ни хрена ты не говорила!
— Ах так, значит, не говорила, по-твоему?
— Нет, по-моему, значит, не говорила, а наоборот, тебе до смерти хотелось посмотреть на придурковатую девчонку.
— Да Бьярне же!..
На этом танцы закончились. Мамка высвободилась из рук дяди Тура, в три целеустремленных шага пересекла кухню и что было силы залепила брату номер два пощечину, да так, что он, шатаясь, отступил назад и осел на скамью, на которой он обычно проводил завершающую часть вечера, дочитывая те две книги, которые он заранее знал, что ему подарят.
— Какого черта ты себе позволяешь…
Он привстал было, но был остановлен еще одной пощечиной и остался сидеть. Тетя Марит полупридушенно взвыла. У мамки руки и шея зарделись ярким пламенем, похоже было, она вот-вот бросится в новую атаку; должно быть, дядя Оскар тоже заметил это, потому что попытался обхватить ее руками, с тем результатом, что и он тоже схлопотал по морде.
— Конечно, теперь тебе понадобилось встрять, — завопила она. — А где же ты был, когда был нужен мне?!
— Что это вы там вытворяете? — крикнула бабушка из гостиной.
— Посмотри на нее! — закричала мамка стальным голосом, показывая на забившуюся в угол Линду, вцепившуюся одной рукой в бамбуковую палочку от «микадо» и в меня — другой; или, может, это я в нее вцепился, а не она в меня. — Это тебе ничего не напоминает? Это тебе ничего не напоминает?
Дядя Оскар виновато и жалко поник.
— Ты был взрослым и видел, что происходит, — не унималась мамка, — и ты, и эта бестолочь в гостиной!
— Больно! — воскликнула Марит, и другие девчонки расплакались все по очереди; тут мамка, похоже, пришла в себя и начала воспринимать окружающее, может быть, услышала невнятное бормотание дяди Бьярне:
— Думаешь, он только над тобой измывался, дура. — Дальше последовало что-то о темноте в ванной, что, как я понял, имело отношение к их отцу, моему дедушке, о котором говорили еще меньше, чем о моем отце, — мы даже на могилу к нему не ходили, за ней ухаживал дядя Оскар; я один раз с ним сходил накануне Рождества четыре года тому назад, днем, холодина была жуткая; мы зажгли свечки и положили венок среди миллионов других, а когда я спросил, на небе ли дедушка, дядя Оскар тихо и спокойно пробубнил, выпустив морозный пар, что — нет, он в аду.
Услышать подобное от дяди Оскара — такое не часто случается, так что я постоял немного, ковыряя снег носком ботинка и раздумывая; но он сказал это так, что слова прозвучали буднично, дескать, где-то для каждого из нас найдется место, так что я совсем про это забыл, а вспомнил только сейчас, когда обнаружил, что и на дядю Тура тоже нашло что-то непонятное и он стоит, прижавшись лбом к ледяному оконному стеклу, и плачет как ребенок.
— Да, веселенькая у нас семейка, — фыркнула мамка и объявила, что праздник закончен, для нас во всяком случае, вытащила нас за собой в прихожую и принялась одевать Линду, стоявшую прямо как зажженная свечка и все еще сжимавшую в руке палочку от «микадо»; мамке пришлось сломать ее, чтобы надеть на эту руку варежку, я тем временем запихивал обратно в рюкзак наши подарки.
— Чего это вы там делаете? — крикнула бабушка.
— Ничего, — сказала мамка. — Как всегда.
Времени было всего часа четыре. На всех улицах, во всех домах, по всему небу застыла тишина, и никто из нас тоже не проронил ни слова, пока мы, шаркая ногами, плелись по сухому как пыль снегу; но когда мы очутились под железнодорожным мостом возле склада лесоматериалов, мамка резко остановилась и посмотрела вниз, на меня:
— Ты понимал, что так и будет?
— Я не знаю, — сжался я под ее взглядом. Но она опустилась на колени, ничуть не думая униматься, обхватила меня за плечи и тряхнула, заглядывая в самую душу того, что от меня осталось. — Ты понимал, что будет так, Финн?
— Я не знаю, — сказал я. — Но мне кажется, что я вижу… кое-что.
— А что? Что ты видишь?
Возможно, здесь у меня был шанс обрести ее, снова, но не было сил — я еле сдерживался, чтобы не заплакать. — Не хватало еще, чтобы и ты разнюнился, — сказала она, поднялась на ноги, застыла, оглядывая покрытый снегом железнодорожный мост и пустую дорогу совсем без машин, которая как раз тут расходилась надвое, одетую мерцающим снегом землю впереди — больше километра до нашего дома по темной и холодной рождественской рани, будто опять задумалась о том, в каком же месте земного шара она находится, и вдруг сорвала варежку с Линды и увидела кровь у нее на руке.
— А это что еще такое?
Линда понурилась.
— Что это такое! Да отвечай же, сию минуту!
— Я её в ногу ткнула.
— Что?
Линда повторила ответ, чуть тише.
— Ты ткнула в ногу кого?
— Марит. Палочкой.
Мы с мамкой переглянулись; я — в отчаянной надежде, что мы наконец снова посмеемся, нашим смехом, покинувшим нас. Но она была потеряна для меня и такой и осталась.
— О господи! Разверни-ка вот это.
— Что?
— Распаковывай, — сказала она решительно, схватила лыжи, которые я нес на плече, и вручила их Линде, смотревшей на нее большими глазами.
— Прямо здесь?
— Да, здесь, солнышко мое, ну, давай.
Линда стояла, не шевелясь, и улыбалась; развернула подарочную карточку и прочитала — «Линде от мамы и Финна»; начала разворачивать бумагу, бесконечно медленно, чтобы не порвать, сложила ее и убрала в ранец, а мы с мамкой стояли и смотрели. Пара лыж «Сплит-кейн», длиной метр сорок, смазанные Кристианом и перехваченные по центру ремешком, с маленьким деревянным чурбачком между ними, чтобы не прогнулись, с кандагарскими креплениями, которые можно с обеих сторон подогнать по ноге маленькими латунными винтиками; есть что-то такое солидное и изысканное в паре лыж «Сплиткейн», что находит отклик в сердцах жителей нашей снежной страны: блестящая, коричневатая, отливающая красным деревом поверхность, со светлыми вкраплениями на ней; от них веет шоколадом, серьезностью истории, библиотеками и скрипками.
— У нее же нету с собой лыжных ботинок.
— А вот и есть.
Мамка скинула с себя рюкзак и достала оттуда Линдины рантовые ботинки, велела ей сесть и переобула ее, а я в это время распустил ремешки, скреплявшие лыжи, и обнаружил, что снизу они не смазаны, а только пропитаны черным дегтем, от которого до сих пор сильно пахло; Линда осторожно сунула ботинки в крепления, я их застегнул и подогнал по ее ноге, и мамка сказала:
— Ну давай, иди.
Линда прошла два шага и плюхнулась; я помог ей подняться на ноги, и она снова плюхнулась. Мамка вытащила шнур, которым затягивалось горлышко рюкзака, и сложила один его конец петлей. — На, хватайся и держись крепко, мы тебя потащим.