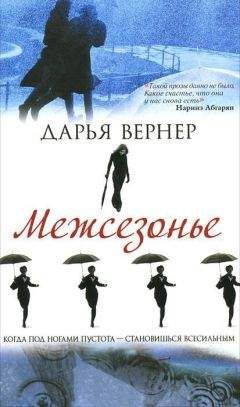А после крестин – «я хочу покреститься, очень-очень, а ты чтоб была обязательно крестная» смотрит в глаза и спрашивает-отвечает:
– Теперь ведь ты мне тоже мама? По правде? И ты всегда будешь со мной?
– Да, – говорю я, чувствуя, что сил хватит на то, чтобы защитить и поднять на ноги хоть весь мир, чувствуя, как придет будущее, и оно станет золотисто-светлым, нестерпимым от света, а я буду старая, сяду под старой яблоней на даче, а около будут играть Сонины дети, и сама она – повзрослевшая – выйдет из дома на залитую солнцем поляну с чашкой крепкого чая в руках, – конечно. Всегда-всегда.
И в этот момент я уверена, что все так и будет.
– Вот этот шарик сюда ведь, да?
Елочные шары похожи на огромные яблоки в красной сахарной глазури, которые продают в светящихся домиках на Ратхаусплац, в домиках, сколоченных из белых, с восковой желтизной по краям, свежих досок. Яблоки алые и блестящие, такие блестящие, что в них отражаются ослепительные в черном ночном небе электрические лампочки-гирлянды и шпили ратуши, а наверху – рыцарь, охраняющий Вену. Соня всегда просит такое яблоко, а еще – клубнику в шоколаде, черном, горьком, и белом, нанизанную на деревянную шпажку так, что получается маленький клубничный шашлык.
– Вот сюда?
– Да куда хочешь – это же наша елка, как хотим, так и украсим.
Как в детстве, играл оркестр под управлением Геннадия Рождественского, музыка из «Щелкунчика» заполняла все комнаты, тонко пели мальчики в «Вальсе снежных хлопьев» – только раньше в центре комнаты кружились мы с сестрой, а вокруг неслись, все убыстряя бег, безумной каруселью шкафы темного дерева, старое пианино, часы на стене, книжные полки, диван, снова часы, снова шкафы темного дерева, снова, снова – а теперь совсем в другой квартире и стране, но так же неистово и безумно кружится Соня и хохочет.
– Смотри-и, тоть Саш, ну смотри-и-и как я!..
Это совсем другой Новый год – почти бесснежный и чудной, но к нам прилетели папа и тетя Наташа, и недавно была в гостях двоюродная сестра Рита. Кажется, что оттуда, откуда мы уехали, перекидывается призрачный мост – чтобы соединить две половинки разорванного на лохмотья сердца.
– Давай-ка я помогу, – деловито говорит Соня маме и ложкой размазывает по противню тесто для новогоднего печенья, бурое, испещренное изюминами и порубленными грецкими орехами. Печенье нужно будет резать ножом, пока оно горячее, разделяя на ромбики с лохматыми краями, складывать на блюдо, чтобы поставить на стол ближе к полуночи.
Если подкрутить колесико на батарее, то станет теплее, и елка запахнет остро и тонко, хвоей и детством.
Тогда мы положим на паркет, туда, под разлапистые ветки, подарки в разноцветных фантиках-обертках, и когда придут гости, они с порога почувствуют, как она благоухает.
Наша. Елка.
А еще каких-то два года назад, в конце декабря мы решили своровать елку – денег не было, а елку хотелось ужасно, даже подводило живот. Так же в детстве хотелось, чтобы ты закрыл глаза, а потом – опа! – Дед Мороз уже заходил и оставил под елью в большой комнате около своего двойника, сладко пахнущего пластмассой, подарки. Удивительно – достаточно стать эмигрантом, помыкаться по чужим углам и справить Новый год в обшарпанной комнате старого дома с видом на железную дорогу и помойку – как начинаешь ценить то, что с детства само собой разумелось, а теперь стало недоступным, словно собственный замок со строгой аллеей до подъезда. Мотание по задворкам жизни преподносит тебе вдруг осознание: счастье – это когда удается справить праздники так, как хочется.
Старичок был литературный. Что надо был старичок – с куцей бороденкой, в тяжелом тулупчике, такой же кряжистый, как стволы елок, что он подпиливал, прежде чем вколотить ствол в распорку. А потом они стояли в ряд – красавицы, дорогие, нам не по карману. Пахли, кололись и язвительно желтели ленточкой-ценником. Кусались, прямо скажем.
Старичок утробно посмеивался и шутил – мы и половины слов не понимали, нижнеавстрийские словечки смачно вылетали на мороз и трещали. Он гудел в бороду и, выхватив из кучи лапника несколько веток, втиснул мне в руку. Дома они нагло заняли всю квартиру и сразу с порога шибали в нос новогодним духом. Но что было все это против елки – настоящей елки!
Сколько нынче дают за кражу новогодних елок? Если поймают – будем изучать австрийские диалекты в тюрьме. В общем, мы решились. Успокаивали свою совесть тем, что это для Сони. Хотя она была совсем еще маленькая, ей елка – что палка, все равно. На дело – «на троих» – пошли сестра и питерская знакомая, Оля.
Австрийцы к елкам относятся странно. За десять дней до Рождества тысячи елей забрасывают в город, венцы тут же развозят их, закутанных в сеточки, на машинах по домам и тут же ставят в комнаты. Это из-за елок венские окна в Адвент приветливее, чем обычно, – они требуют лампочек, света, всей этой праздничной мишуры и противятся любимой австрийцами экономии. На следующий день после праздника первые деревья уже валяются на улице – на предусмотрительно приготовленных муниципалитетом местах «сбора рождественских елок». До Нового года в квартирах доживают редкие счастливицы.
Елочные базары отдают богу душу 24 декабря. Деревья запирают или бросают все как есть. Вот такой-то базарчик нам и был нужен – и мы знали, где его найти. Почти в центре Вены, у Обетной церкви. В тамошнем заборе, если просочиться к нему у церковной стены, зияла дыра.
Пока ехали на метро и еще на трамвае до церкви, Оля ужасно волновалась – давайте, говорит, легенду придумаем, если нас застукают. Мы с сестрой отмахивались – какая там легенда, если в руках у каждой по елке? Да еще и в неурочное время, когда их больше не продают.
Дыра в заборе оказалась на месте. А со стороны паперти кто-то позабыл закрыть импровизированную калитку елочного базара, и мы перебегали от елки к елке пригнувшись – чтобы не заметили с улицы. Сырой ветер хлопал плакатом-растяжкой на фасаде и, пугая, качал фонарные тени. Нам с сестрой нужна была только одна елка, но глаза разбежались, и от жадности каждая схватила по штуке – мне досталась большая, завернутая в сеточку, а ей маленькая, пушистая. Мы обнимали их и совсем не чувствовали, что они колючие. «Вам хорошо жировать, – сказала Оля с укоризной и ухватила самую маленькую, голубую, – а мне-то на шестой этаж без лифта».
Хлопнула дверца автомобиля. Мы замерли и поползли к забору. Стуча каблуками, на паперть вбежала нарядная женщина, подошла ко входу, подергала ручку. Потопталась на месте. «Что делать будем, если она нас заметит?» – трагически зашептала Оля мне в ухо. «Что-что, – ответила сестра, – как ты думаешь, что делают со случайными свидетелями?» Женщина, словно услышав, развернулась и медленно пошла к нам. Остановилась на полпути, встретившись с нами взглядом, и быстро-быстро сбежала вниз.
Мы бросились в другую сторону, спотыкаясь о елки. Прижимаясь к церковной стене, тащили, не разбирая дороги, стараясь держаться в тени, а Оля все приговаривала: «Ой, девочки, а если она позвонит в полицию?»
В переулке у университетского кампуса остановились перевести дух и решить, куда пойдем дальше, и через минуту поняли, что стоим прямо около полицейского участка. Спину обдало холодом, а Олино лицо сделалось таким, будто она воочию увидела круги ада Босха. Дальше мы только бежали.
Кто-то вспомнил, что на следующей улице – полиция по делам иностранцев. Это было совсем плохо, и мы, как зайцы, принялись петлять по узким переулкам, спускались по крутым лестницам – в общем, заметали следы. Елка сделалась вдруг ужасно тяжелой, просто каменной.
«С наступающим!» – раздалось из-за спины. Прохожий-поляк непременно хотел знать, из какой мы страны, когда отмечаем Рождество и что делают русские на Новый год. Он рассказывал про своих внуков и про семейные рождественские традиции, добродушно и приветливо улыбался. А нам хотелось провалиться сквозь землю и еще – чтобы он поскорее куда-нибудь свернул.
В трамвае на нас оборачивались, и мы старались не встречаться ни с кем взглядами. Увидели вдруг, что все перчатки грязные, будто мы таскали навоз, а руки исколоты до крови.
«Эх, – сказала мама, когда мы дотащили награбленное до дома, – а старичок-то в парке час назад оставил нераспроданные елки прямо на улице – берите что хотите…»
Теперь у нас своя елка – и нам все равно, сколько она стоит.
Папа дорезал лук: «Плачу я, плачу», – кривляется он, а мы смеемся и говорим, что он – Актер Актерыч. Ключ поворачивается в замке – с работы, из филармонии, пришла сестра («такие морды на Ройманнплац вечером – неприятно идти»), она сразу ныряет в розовую ванную, чтобы «наводить марафет».
Однажды я сказала:
– Послушай, мы так долго не протянем. Устраивайся на работу, хотя бы на десять часов в неделю. У тебя есть все разрешения – хоть какие-то деньги будут.