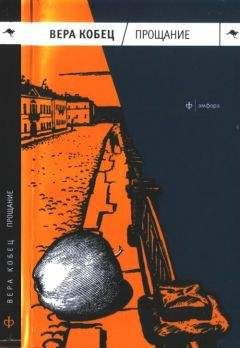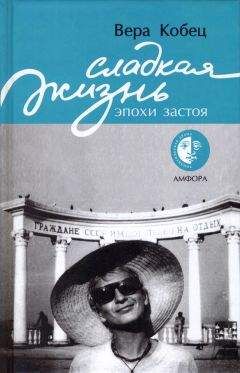Он появился так быстро, что я не успела даже переодеться. И это меня раздосадовало. Я провела его в гостиную, села возле стола, а он поклонился, сказал: «Gnädige Frau, я хочу кое-что показать вам» — и, как фокусник, вынул откуда-то длинную, завернутую в рождественскую бумагу коробку. «Но ведь до Рождества еще далеко!» — удивилась я. Он ничего не ответил и только весело улыбнулся. А я открыла коробку и вынула из нее деревянную куклу. Пиноккио? Но нос у куклы не был особенно длинным, а улыбка… морщины на лбу да и все лицо, безусловно, напоминало Мартина. «Можно его подарить тебе?» — спросил Мартин, и мне стало страшно.
Когда он заговорил о женитьбе, я рассердилась. «Да что с тобой, Мартин? Детей нам заводить поздно. Покупать дом? А зачем? У меня очень хорошая квартира. Мне в ней нравится. У тебя тоже очень хорошая квартира. Если мы вдруг поселимся вместе, то начнем ссориться. Посмотри на своих друзей Хайнеке. Они даже и при гостях шипят друг на друга». Но Мартин не унимался. Просил, умолял. И в конце концов так надоел мне разговорами о свадьбе, что я вскипела и велела ему никогда не затрагивать этой темы. «Ты меня так в могилу сведешь», — сказала я. «Замуж!» — от этого слова у меня начинается сердцебиение, а я уже не так здорова, чтобы позволить себе это. Доктор при нашем Центре говорил: «Ничего угрожающего, фрау Везелер, но вы должны быть внимательны и беречь сердце». Два раза в год мне прописывали инъекции. Мартин знал это… и все же смотрел иногда такими глазами, что было не выдержать. И когда захотел поехать со мной на море, я отказалась. Возможно, и его хромота роль сыграла. Надеюсь, он так не думал. Иначе зачем бы стал рисковать?
После моего возвращения мы виделись уже редко. Я постаралась разумно заполнить жизнь. Регулярно ходила в бассейн, слушала курс архитектуры в Вечернем университете для взрослых. Там все занятия бесплатные, иначе, конечно, я не могла бы это позволить. И все-таки иногда делалось тяжело. Я открывала бутылочку, садилась к телевизору, смотрела все равно что… Однажды в такой вечер пришел молодой человек, который присматривает за электричеством. Как это называется? Да, да, монтер. Что-то он объяснил, какая-то профилактика. Мы немножко поговорили. Он был поляк, в Германии только год. Много проблем, но он надеется со временем их все решить. Я предложила ему глоток виски. Просто так, за успех. Он выпил, потом подошел ко мне, обнял за плечи и сказал: «Я могу остаться… на полчасика». Надо было ответить шуткой или сказать: «Нет, нельзя, ко мне сейчас придут», а я взяла да брякнула: «О чем ты! Ведь я гожусь тебе в матери». Он извинился и ушел, а я расплакалась. Этот парень точно годился мне в сыновья. У меня мог быть такой взрослый сын. Несколько месяцев я надеялась, что он все же придет. Я занималась бы с ним немецким. Давала бы полезные советы. Иногда мне казалось, я чувствую на плече его руку. А потом вдруг сообщили, что Мартин покончил с собой. Повесился в своей квартире. Просто так, без причины. Говорят, что его сестра обвиняет во всем меня. Это глупо! Мне очень жаль Мартина. Я ведь сказала, что мы познакомились на концерте? Он, как и я, любил музыку. Но понимал ее лучше. На другой год после знакомства мы вместе слушали Малера. Дирижировал Эшенбах. Потрясающе. На обратном пути, в машине, мы оба молчали, а потом Мартин сказал вдруг: «Какой жестокий и страшный мир, но как он прекрасен». Aber wie schön… Я сказала, что только музыка schön, и он ничего не ответил. Я плохо помню его, он был какой-то странный. Хромал с детства, может быть, из-за этого.
В прошлом году я попыталась помириться с сестрой и зятем. Съездила даже к ним на Рождество. Но ничего из этого не получилось. Они мещане. У меня с ними ничего общего. Я говорила вам, что доктор Вернер сулил мне блестящее будущее? Что ж, и большие ученые иногда ошибаются. «Когда на то нет Божьего согласья…» — ничего не получится. Странно, что мне вдруг вспомнилось это. Никогда не верила в Бога. Да… Неисповедимы пути Его.
Бывает полоса, когда цветы дарят каждый день. Но тебе этого все равно мало. Каждый день получаешь по букету, а проходя мимо рынка, изо всех сил стараешься не смотреть на торговок, не слышать призывных возгласов, не видеть великолепия цветочного урожая. Нелепо, каждый день получая цветы, все-таки думать, что никто никогда не дарил тебе ведро лилий, или охапку ромашек, или воз одуванчиков. Глупо, но лезут в голову мысли о Пиросмани, завалившем цветами улицу, на которой жила возлюбленная, или о Маяковском, подарившем незнакомке в Ялте целый цветочный киоск. Почему-то снова и снова приходит в голову: цветы и мера — несовместимо. В крайнем случае, мера должна быть сверхмерной: я дарю тебе луг маргариток, поле ирисов, сад, полный роз, и цветы, которые ты сейчас возьмешь в руки, — их символ. Да, так: дарить надо символ, а не разумно выбранный букет. Разумно выбранный — оскорбление и цветам, и акту дарения. Если хочешь дарить, даришь всё. Границы и рамки зачеркивают дарение, и все превращается в ложь.
Разумная взвешенность почему-то всегда ощущается. Сегодня ты заслужила хороший букет, а завтра с тебя хватит меньшего. Цветы становятся чем-то вроде отметок. Головки цветов — баллами. Но они так не могут, противятся; они не хотят быть отрезанными от корня, от того, что питает, от своей почвы, от моря цветов. Как только их изолируют, превращая в цветочно-подарочную единицу, они сразу никнут. И не спасают ни кинутый в воду сахар, ни аспирин, ни возня с листьями и стебельками. И очень отчетливо помнится смерть цветов.
Когда-то давным-давно это были нарциссы. Я получила их в феврале. Букет был большим и тщательно запакованным. «Открой, но осторожно, они на морозе завянут. Или давай лучше зайдем сюда на секунду: ты быстро посмотришь, мы снова их запакуем, и тогда они простоят дней пять-шесть, может быть, и неделю». Да, конечно же, это разумно, и мы входим в толчею булочной, и я уже чувствую у себя на лице крепко приклеенную улыбку фальшивой радости. Мы входим в булочную и аккуратными, показно бережными движениями я разворачиваю бумагу. Она пахучая — запах почти приятный, — и когда я наклоняюсь к нарциссам, они тоже пахнут этой бумагой. Ввезенные через час в дом, поставленные с предосторожностями в широкую — раструбом — вазу, они уже с первой минуты кажутся обреченными, и очень скоро лепестки скручиваются в сухие трубочки, но этого надо стараться не замечать. «Все-таки они очень красивые». — «Конечно». — «А кроме того, что ты хочешь? Февраль, минус двадцать». — «Да, покупать зимой цветы — опасно». — «Но ты не расстраивайся. Ведь вначале они были совершенно весенними». И самое трудное — выбрать момент, когда можно их выбросить в мусорное ведро.
А эти розы? Гордый букет был так хорош, что захотелось обмануть себя — сказать: живой, а не отрезанно-отмеренно-убитый. Так ли? Я то и дело бросала на него встревоженные взгляды, и хотя поначалу все было в порядке, увидев, как поникла головка кремовой розы, не удивилась и не восприняла это как неожиданность. Стало понятно, что я это знала с той первой минуты, когда мне протянули красивый, со знанием дела подобранный букет роз. «Глупости, — говорю я, — все знают: розы капризны. На ночь их надо положить в ванну, и утром все будет отлично». Открутив кран до отказа, я, торопясь, наполняю ванну водой. Приношу розы; они обреченно-спокойны. Сосредоточившись на обычных делах, я стараюсь не думать об их жалком виде. Ведь это нелепо! Завяла только одна, все остальные по-прежнему великолепны. Я получила в подарок красивые розы, я получила в подарок красивые розы… Не надо дарить, потому что этого требует воспитание, надо дарить, когда хочется, ну а мне так никогда не дарили. Стоп! А мальчишка из Еревана, который спросил, как пройти в Эрмитаж, а потом выкрикнул: «Минутку!» — и куда-то исчез, а я дура-дурой стояла на тротуаре и вдруг увидела, как он бежит через Невский, размахивая пионом, а потом, улыбаясь, протягивает: «Держи!» Пион был громадный, мохнатый и розовый. И я носила его в руке целый день, а потом, дома, поставила в воду, и он, чуть нахохлившийся после дневных испытаний, мгновенно оправился, похорошел, глянул весело, и утром, когда я проснулась, приветствовал меня так ликующе, что вспомнилось и другое давно забытое ликование: букет подснежников, который мне подарила баба-яга, она же бабушка Лены Сытиной, на другой день после того, как мне исполнилось восемь лет.
Баба-яга каждый день приходила за Леной в школу, сидела в углу на лавке, вся черная, с носом-крючком, с клюкой, и я каждый раз старалась проскользнуть мимо, чтобы ее почти не заметить: смотреть на нее было страшно, даже когда она шла по улице и вела Лену за руку, а в полутьме раздевалки и вовсе невыносимо. В тот день я, как всегда, пыталась и в самом деле ее не заметить, но она зацепила меня концом палки: «Иди сюда. Это тебе». И она протянула мне белый букет подснежников, а я взяла его и спросила: «А это за что?» — «За то, что вчера у тебя был день рожденья», — сказала она назидательно и рассмеялась тихонько: хе-хе. А я оказалась перед распахнутой дверью (только что прочитала «Тони и волшебная дверь») и увидела чудеса вроде маленьких чертиков, смеясь прыгающих перед глазами. Раньше я знала, что цветы можно получить в день рожденья, их покупают, когда идут в гости, на юге — потому что дешевы, первого сентября — потому что так принято. А значит, все может быть и иначе. Можно дарить цветы, потому что вчера был день рожденья, и потому, что будет через месяц, и потому, что вообще бывает. Я шла домой, держа перед собой подснежники. Они были крупные, веселые, яркие. Пройдя по Съездовской, я повернула за угол у дома Саши Зингера, вышла в Тучков переулок, прошла мимо Девятнадцатой школы, в которой сейчас разместился Институт языкознания, хотя всегда и навечно здесь школа, во дворе которой Алеша Мигунов будет играть в снежки с девочкой Ирой. Это случится через семь лет, а сейчас я спокойно огибаю угол Девятнадцатой, иду по Волховскому мимо дома, где живут Вова Балаев и Лида Медведева, мимо прядильной фабрики — окна ее на одном уровне с плиточным тротуаром — к себе на Биржевой.