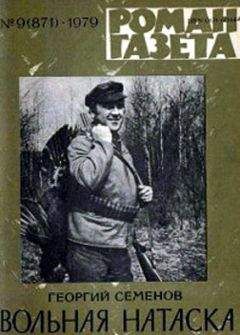— Это невозможно хорошо! То есть я хотел сказать, — поправился Бугорков, — что здесь чудесные места и твой сынишка… А почему ты не взяла его с собой?
— Ему нельзя. Ему только в тенечке. Он чуть не умер у меня этой весной.
— Что же это с ним? Как же? — испуганным, приглушенным голосом спросил Бугорков, замедляя беспечный и веселый шаг.
И Верочка опять отметила про себя его удивительную способность так искренне реагировать на чужую боль. И она вкратце, боясь долгих и подробных воспоминаний, рассказала ему о тех ужасах, которые пришлось пережить ей с сыном, о том, как долго не могли поставить верный диагноз, пугая ее и менингитом и полиомиелитом, хотя у него было очень опасное менингиальное осложнение после гриппа, и с каким трудом Олежка выкарабкался из этой беды.
— Нет, я не хочу вспоминать… Я просто не могу! Ты извини, я… это слишком… близко снова… Нет…
— Господи! Я ведь не знал! — взмолился Бугорков. — Бедняжка! Сколько же тебе пришлось испытать! Прости меня! Забудь об этом… Все теперь хорошо.
Верочка Воркуева даже остановилась, пораженная той тревогой, которая сочувственно звучала теперь в голосе Бугоркова. «Бедняжка! — снова услышала она. — Сколько же тебе пришлось испытать!»
— Пора возвращаться, — сказала Верочка. — Ну а ты? Женат? Дети? Сколько?
Коля Бугорков впервые осмелился взглянуть ей в глаза и сказал с улыбкой и с каким-то неожиданным заиканием:
— Я… женат… н-н-на одной-единственной… П-п-прости меня, если можешь, за эту чертовщину… Я б-больше никогда не буду… Нет, я не женат. Не получилось ничего. Так уж вышло… Не думай, нет! Я не жалею нисколько. Н-не мальчик, конечно, были увлечения, но вот… видишь так бывает…
Теперь он жадно ощупывал ее глазами, точно наедался впрок ее плотью, скользил взглядом по каждой ее морщинке, по каждой складочке на похудевшем ее теле, по каждому бугорку выступающих ребер и позвонков, и делал это в открытую, пользуясь коротким мгновением, заминкой, которую как будто специально для него устроила Верочка Воркуева, в задумчивой улыбке отвернувшаяся к реке.
— Пора возвращаться, — повторила она. — Здесь и в самом деле хорошо.
— А ты не хочешь попить? — спросил Бугорков с надеждой. — Здесь совсем близко, за поворотом, родник… Будешь знать, что вот и родник тут есть… А? Пошли.
«Я там все оставила», — хотела сказать Верочка, но постыдилась, боясь обидеть Бугоркова, чувствуя себя так, будто пришла к нему в гости, в его дом.
Они шли по сырому и гладко прилизанному речному заплесу; справа текла река, а слева горбились чистые пески. Но уже совсем близко подступили к реке полураздетые в этом жарком году бурые кусты, а в воде с замшевым сереньким донышком росла яркая осока.
Над осокой шуршали синие стрекозы, порхали над живой водой, над серыми спинками косо отплывающей от берега рыбьей молоди, и в воздухе пахло рыбой, как пахнет грибами в сыром лесу.
В благостном каком-то исступлении, в полной отрешенности от мира шел Бугорков рядом с Верочкой Воркуевой, не веря в реальность всего происходящего, ощущая рядом с собой не человека, не женщину во плоти, а нечто высшего порядка, какой-то воспаривший над ним и над всем миром дух. Восторг его был так велик, что он совершенно не чувствовал себя, не понимал, что происходит с ним. Лишь какими-то сверхчувствительными, неподвластными ему токами он все время ощущал рядом с собой присутствие высшего начала всех своих начал, предел всех своих мечтаний, материализованное свое желание, которое шло, легко ступая босыми ногами по зализанному песку.
Белокожие ее стопы словно бы чуть прикасались к поверхности мокрого песка, но влага, пропитавшая песок, на какое-то вспыхивающее мгновение уходила вся из песка, выдавленная тяжестью тела, и тогда вокруг стоп как бы тоже вспыхивали на миг светлые ореолы.
И Бугорков в боголепном своем восхищении, замечая эти светлеющие пятна мокрого песка, понимал вдруг и с колеблющимся сердцем ощущал рядом с собой тепло тяжелой женской плоти и свое собственно присутствие, свое собственное «я», которое захлебывалось от привалившего вдруг счастья, не в силах просто и ясно представить себе, что рядом е ним шла та самая Верочка Воркуева, которая когда-то прогнала его, но которая все-таки, которая все-таки, все-таки! «Боже мой, — думал он, — неужели это она? И этот мизинец с розовой потертостью — ее мизинец? И эта голубая жилка на бедре — ее жилка?»
— Зря мы пошли, — сказала Верочка Воркуева. — У меня очень мало времени.
— Нет, нет! Вот видишь обрывчик? Это там… Там плаха долбленая и родничок.
В эти минуты он мог думать только о предметных вещах: вот река, вот песок, вот куст, а там родник. Все в душе его как будто распалось на части, которые невозможно было соединить логическими какими-то связями. Все как бы стало само по себе, и ему приходилось в мучительном напряжении разума постигать эти связи заново. Вот река, омывающая песчаный берег, вот он сам и она, идущая по гладенькому и прохладному заплесу, вот жесткий хруст мокрого песка, а вот мгновенные вспышки от их шагов, выжатые тяжестью их тел, а главное — вот она, та самая Верочка Воркуева, которой надо что-то сказать, о чем-то спросить, удержать ее внимание…. Но как? Но что? Но о чем?
Вот река, а вот сидит синяя стрекоза на осоке, и сейчас она взлетит… Вот она заплясала в воздухе. А вот и родник.
— Ну вот и родник, — сказал Бугорков, млея от предвкушения счастья.
Не того счастья, что он напьется сейчас ледяной воды, а того, что Верочка Воркуева наберет в пригоршни этой воды, к которой он привел ее.
Железисто-красные, радужные натеки и монотонный плеск тоненькой струйки…
— Ой, какой тут песок! — сказала Верочка Воркуева. — Ледяной!
Плавучий, размытый берег был пропитан подземным холодом. Струя воды, крученым хрусталем падающая с замшелой плахи, выбила себе ямку, выложенную цветными камушками. Из этой ямки, из чистого ее ведрышка, переполненного водой, выбегала узкая струя, прорезав глинисто-серое русло, которое около реки сходило на нет, а струя воды широко растекалась по песчаному наплыву, светло вдававшемуся в реку мягким языком.
Следы босых ног, глубоко и резко вдавившихся пальцев…
— Ты попробуй, — сказал Бугорков. — Ты в жизни не пробовала такой воды!
Ах, как старалась Верочка Воркуева нагнуться к струйке так, чтоб получилось это изящно! Как легко она присела на корточки! Как гибко выгнула спину, протягивая сомкнутые ладони к воде! Как улыбнулась, ополаскивая руки! Как поднесла к губам сочащуюся сквозь пальцы воду и впилась в нее губами!
И как пружинисто поднялась она, смывая мокрыми руками жар с лица, словно совершая молитвенный обряд, мусульманское какое-то омовение… И засмеялась, довольная собой, блеснув тоже омытыми как будто зубами!
Бугорков смотрел на нее как на чудо и, угнетенный, не мог сказать ей ни. слова, хотя и готов был прокричать о невыносимой тоске, которая вдруг вернула его на землю.
Он увидел перед собой чужую жену, мать чужого ребенка, которая очень скоро вернется в свою семью, к мужчине, семя которого выносила она в утробе, в муках родив сына, похожего, наверное, на отца…
Это жуткое, как ему показалось, превращение, перерождение Верочкиной плоти, кошмарный, как ему представилось вдруг, процесс зачатия, тяжелой брюхатости, прислушивания к развивающемуся плоду, тяжкая поступь с выпяченным животом и наконец роды — все это вдруг такой вопиющей нелепостью, таким несоответствием, такой тоской прошлось по сердцу, так он вдруг отчетливо представил себе безумное и отвратительное переплетение двух тел, занятых заботой о продолжении рода, что в холодном каком-то и черном поту, чуть ли не теряя сознание, стал на колени в ледяной холод земли и, зажмурившись, сунул голову под струю… Потом встряхнулся, как собака, всей головой.
И опять увидел ступни Верочкиных ног, серую глину, застрявшую между пальцами, между перстами, как он подумал о ее пальцах, увидел мраморно чистую легкую щиколотку с крошечной родинкой на полированном бугорке, и снова не поверил, что именно здесь, на берегу Тополты, у родника, он смотрит и видит наяву свою Верочку Воркуеву.
«Не-ет! — подумал он с вожделением. — Она моя! А потом уже… потом… Моя, конечно, господи боже мой! Ты ведь моя! — хотелось сказать ей. — Ну о чем ты сейчас думаешь? Ну скажи, пожалуйста! Неужели ты сама ни разу не подумала об этом? Ты ведь помнишь, да? Ну почему же тогда, господи! Почему же кто-то имеет право, а я, твой первый, лишен его? Ведь ты помнишь! Ты же моя!»
Чего бы он ни отдал за то, чтобы узнать сейчас, как и что о нем думала в эти минуты Верочка Воркуева! Каким вошел он в ее сознание?! Узнать бы эту тайну, увидеть ее глазами, ее сетчаткой, ее хрусталиком, ее мозгом, узреть себя в ней! Ведь как-то же он отразился, как-то вошел, как-то осознан ею?!