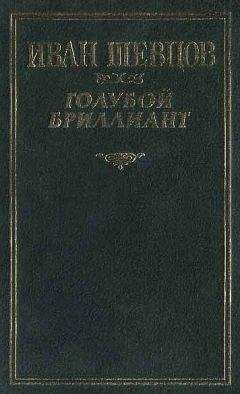- А я что говорил? - подхватился Пухов. - Совершенно верно: из песни слов не выбросишь.
- Выбрасывают, - не соглашался Иван Матвеевич, весело сверкая острыми глазами, и озорно спрашивал, ни к кому конкретно не обращаясь:
- А приходилось ли вам слышать такую курьезную фразу: Сталинградская битва под Волгоградом? Есть еще деятели, которые обращаются с историей, как с гулящей девкой…
- Кстати, о гулящих, - стремительно подхватил Пухов, желая, очевидно, переменить тому разговора. - Жена возвращается домой из магазина взвинченная, недовольная и обращается к мужу, желая у него найти сочувствие: "Что за мужчины пошли, хамье, алкаши. Сейчас один такой хам без всякой причины обозвал меня словом на букву "б". Представляешь?" Муж сочувственно посмотрел на жену и успокоил: "А ты не ходи, где тебя знают".
Но анекдот не произвел желаемого впечатления и не увел разговор в сторону. Денис спросил Пухова, понравились ли ему только что прочитанные стихи.
- Стихи, как стихи: традиционны по форме и не бесспорны по содержанию, - уклончиво отмахнулся Юлий Григорьевич, но ему не дали уйти от вопроса.
- Позвольте, что значит традиционны и в чем конкретно они спорны? - настойчиво спросил членкор, желая вызвать Пухова на спор.
- Видите ли, я не считаю себя знатоком современной поэзии и потому не берусь судить категорично, - начал Юлий Григорьевич своим внушительным голосом. - Но мне думается, нашей поэзии не достает эксперимента. В этом отношении современная музыка, эстрада сделала крупный шаг. В самом деле, нельзя всем писать под Пушкина или, скажем, под Есенина. Вы знакомы с поэтом Артуром Воздвиженским? - Вопрос относился к поэту.
- Знаком, - кратко и негромко ответил поэт.
- Вот он, мне кажется, плодотворней всех работает над поисками новой формы современного образного выражения нашей действительности, - продолжал Пухов свою мысль. - Его поэма "Мед-67" - значительное событие в нашей литературе. Она переведена на европейские языки, в Америке ее издали на листах из нержавеющей стали. Да-да, вместо бумаги - нержавеющая сталь.
- Вот даже как, - недоверчиво отозвался Виноградов. - Выходит, шедевр мирового класса. И о чем же этот мед?
- Видите ли - как всякий эксперимент, вещь эта необычная. В ней нет традиционного сюжета или лирического героя, - отвечал Пухов с видом профессионала. - Она построена на аллегории, символике.
- Любопытно, - произнес Иван Матвеевич и, устремив вопросительный взгляд на поэта, спросил: - Вы читали этот мед?
- Читал, - ответил поэт со вздохом. - Я не помню наизусть всю поэму, да ее и запомнить невозможно, но небольшой отрывок прочту вам по памяти, впрочем по этому отрывку вы можете иметь представление о поэме в целом. Вот этот отрывок:
Мед, мед, мед,
А в баре шизик орет:
"Все сволочи! Назад! В пещерный век!
Я человек с верблюжьим глазом.
Пусть подтвердит вам это Аза.
Она молчит. Вот стерва!
Вмазать горизонтально, биссектрисой,
потом пойти в сортир… подумать".
Мед, мед в трехсотпятидесятиграммовой банке.
Кто разобьет, получит склянки.
А критик врет, как на Таганке.
Врет, в рот, мед, пьет, в рот, мед, лед…
Его ломает ледоход.
Атомный ХХ-й век.
Я - человек цивилизации,
пришелец из вселенской нации…
И все в таком же духе, - закончил поэт, и наступила странная пауза недоумения, словно никто не решался нарушить ее первым. Тогда заговорил Пухов:
- Мед, лед, взлет, полет - в этом что-то есть: ритм, экспрессия и, конечно же, аллегория. Недаром американцы издали ее в нержавеющей стали.
- Хорошие стихи и на простой бумаге нетленны. И без бумаги, в памяти людей живут. А всякий бред хоть на нержавеющей стали отпечатай, хоть на золоте - все равно он останется бредом, - сказал Иван Матвеевич под одобрительные взгляды присутствующих.
А членкор, как бы размышляя вслух, произнес, глядя на Пухова:
- Вы правильно сказали, Юлий Григорьевич, недаром американцы издали в нержавеющей стали. Даром они ничего не делают. В прошлом году я был в командировке в Париже. Как-то зашел в магазин русской книги. И туда вошел человек средних лет с нарочито развязными манерами, о чем-то пошептался с хозяином магазина и затем обратился ко мне: "Вы оттуда?" - "Что вы имеете в виду?" - уточнил я, хотя правильно понял его вопрос. "Из Московии?" Я кивнул. Тогда он с наигранной торжественностью представился: "Ваш соотечественник Булат Олжисович Аджуберия, сын репрессированного троцкиста, выдворенный из страны Советов за инакомыслие". Это было для меня как-то неожиданно, и я произнес первое, что пришло в голову, я спросил: "Вы довольны своей судьбой?" - "Очень, - с преувеличенной гордостью ответил инакомыслящий и сообщил: - Здесь я почетный член академии изящных искусств". - "Что ж, поздравляю вас и Академию: изящно оно и почетно". И я галантно откланялся. Говорить с ним было противно.
Членкор сделал паузу, которой поспешил воспользоваться Пухов. Это было в его манере - уводить неприятный разговор в сторону, как говорится, "менять пластинку". И он сказал, скорчив на холеном лице пренебрежительную гримасу.
- Булат Аджуберия - просто подонок, мелкий авантюрист.
- Согласен, - подтвердил членкор. - Но его там, на Западе, сделали почетным членом академии. Спрашивается: за какие такие заслуги? Не даром же, не просто "за так". Даром там ничего не делают. Это всем хорошо известно. И на нержавеющей стали издают тоже не даром. Напрасно вы, Юлий Григорьевич, искали в этом "мед, лед" какие-то ритмы, экспрессию. Поэзией там и не пахло.
- Бред шизофреника, или как сам автор выразился, "шизик орет", - сказал Иван Матвеевич и обратился к поэту: - А он не шизофреник, этот стихоплет из нержавеющей стали?
- Я не психиатр, - поэт улыбнулся и пожал плечами.
Денис никак не мог уловить нить разговора: мешала Маша. Она атаковала его вопросами самыми неожиданными и неуместными, по крайней мере, не относящимися к общей беседе, в которой она не только не имела ни малейшего желания участвовать, но даже откровенно не прислушивалась к тому, о чем здесь говорили. Ее это не интересовало. Нет, она не чувствовала себя здесь лишней. Для нее лишними здесь были все прочие, включая именинника и ее дядю - Юлия Григорьевича. Лишним не был только Денис Морозов, ради которого она пришла в этот незнакомый ей и, главное, чужой дом. И сам Денис, слушая свою активно-общительную соседку и отвечая на ее вопросы, уже отключался от общего разговора, до его слуха доносились лишь обрывки фраз, сказанных то ли Иваном Матвеевичем, то ли Юлием Григорьевичем и другими участниками застолья, и он не всегда улавливал их смысл. "Человек зачинается в радости, рождается в муках, а потом всю жизнь испытывает и то и другое". Это сказал Виноградов. Но по какому поводу, в связи с чем - Денис так и не узнал, потому что в этот момент Маша рассказывала ему о своих впечатлениях от Праги, где она недавно побывала в составе туристической группы. Дениса, равнодушного к спиртному, удивляло, что Маша не пропустила ни одного тоста, пила коньяк и всегда опорожняла рюмки до дна, что, кажется, не нравилось Юлию Григорьевичу. Предлагая Денису "сепаратный" тост, она спрашивала:
- А ваш друг Слава совсем не пьет?
- Он за рулем.
- В таком случае выпьем за его здоровье, - бойко щебетала Маша и тянулась хрустальной рюмкой к Денису. - У меня сегодня такое настроение, ну такое, что хочется напиться. - И блаженная улыбка разливалась по ее розовому лицу, а глаза масляно щурились.
Стремительная атака Маши на Дениса поначалу забавляла Мечислава. "Примитивно и грубо", - мысленно решил он, видя, как конфузится Денис под напором любезностей эмоциональной девицы, и поспешил к нему на выручку, желая отвлечь на себя хотя бы какую-то долю внимания Маши. Он попытался вклиниться в их беседу и сделать ее общей. Но племянницу Юлия Григорьевича такое вмешательство, видно, не устраивало: на замечания и реплики Мечислава она либо отвечала с подчеркнутой небрежностью вполоборота головы, либо вообще игнорировала его слова. Мечислав не настаивал: было любопытно, что будет дальше. Он дал понять Маше, что оставляет их в покое.
А дальше все шло по какому-то примитивному шаблону. Как только объявили перерыв перед чаем, Маша, сославшись на духоту в доме, стремительно увлекла Дениса "на свежий воздух", в сад. Над дачным поселком, представляющим собой застроенную в основном деревянными домами поляну в густой зелени, сгущались сентябрьские сумерки. В свежем воздухе терпко пахло астрами, хризантемами и дымком - где-то невдалеке жгли костры и топили печи. Маша с преувеличенным наслаждением вдыхала этот вечерний аромат и вслух восторгалась, запрокидывая голову и закрывая от блаженства глаза:
- Как прекрасно! Чудо. Я обожаю Подмосковье в пору золотой осени. Сказка, прелесть. Особенно лес, вот этот, абрамцевский. Вы любите лес?