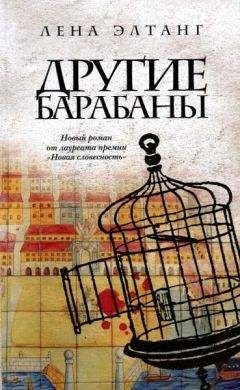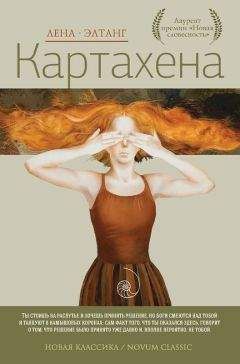— Не бойся, — сказал я, потрепав вялое лысоватое ухо, — я за тобой пригляжу.
Руди вставала по ночам и бродила по дому, стуча отросшими когтями, которые я боялся подстригать, шерсть у нее свалялась мгновенно, живот разбух и свисал до полу. В феврале она перестала вставать, и я перенес ее на кухню вместе с овчиной, с которой она сползала, только чтобы поесть, сделать лужу на полу или стыдливо оставить пару бурых горошин. Комната заполнилась тяжелым запахом умирания, я перестал там готовить и обедал в городе, заходя на кухню только на пару минут, чтобы сменить воду и вытереть пол. Однажды, спустившись в темноте за спичками, я споткнулся о Руди, спящую у порога в собственной луже, полетел на пол со всего размаху и расшиб себе лоб до крови. Утром я завернул ее в полотенце, положил в теннисную сумку и отвез к ветеринару.
Теперь здесь не было ни овечьей шкуры, ни мертвой Хенриетты, ни потеков на стенах, зато пол поблескивал в свете фонаря, будто мокрая асфальтовая дорога. Я вышел в коридор и вернулся в спальню с чугунным шандалом на восемь свечей. Темнота раздвинулась, предметы явили свою белизну, я перевел дыхание и обошел комнату, высоко поднимая шандал, так что язычки пламени почти касались потолка. Никого нет, ninguém.
Нет тела — нет дела, как сказал бы, наверное, мой приемный дед, русский майор.
За то время, что потребовалось мне на дорогу, датчанка воскресла, повесила на стену орудие убийства и отправилась домой в белой концертной столе сеньоры Брага. Надо бросать траву и выпивку или хотя бы перестать их смешивать, подумал я, глядя на стрекоз, мирно обнимающих свои виноградины. Потом я подошел к окну, вглядываясь в угол, где между карнизом и оконной рамой пряталась одна из Лютасовых камер: темный стеклянный пузырек, похожий на персидский амулет, только тот защищает от дурного глаза, а этот сам был дурным глазом.
Камера была на месте, птичья пленочка поднялась, и зрачок совершал свою работу, осознавая движение и свет. Aâŭ Dievui, это розыгрыш, подумал я. Что касается темноты, то в доме просто вылетели пробки, такое бывает, прошлой весной после грозы электричество вырубилось на целые сутки. Ясно, Додо меня разыграла, показала слайды из «Кровожадной Сусанны». Сначала она долго не звонила, чтобы я испугался как следует, потом дала понять, что улетает в панике, а потом вдруг оказалось, что домой ехать нельзя, потому что туда якобы поехал человек Ласло. Я мог бы и сам догадаться, что все закрутилось слишком ретиво и театрально для настоящих неприятностей. Хорош бы я был, позвони я в полицию, у меня тут полный дом каннабиса, запас недавно пополнен, двенадцать фалалеев в сахарнице, как раз на пару лет тюрьмы.
Ладно, а как же пистолет? Когда я видел пистолет в последний раз? Да черт его знает. Вещи в этом доме перетасовываются как карты, уследить за ними невозможно, взять хоть тавромахию, которая с позапрошлого года так и не нашлась. Да провались она пропадом, главное, что в доме нет покойника. Может, я просто-напросто обкурился и видел сон, из которого не сразу смог выбраться, как тот восточный правитель, что увидел, как у него выпали все зубы, и, проснувшись, потерял способность жевать. Пусть тот, кто спит, восстанет от тяжелого сна.
Что касается датчанки, то увидеть во сне покойника к дождю, говорила няня, и дождь сбылся, идет уже вторые сутки и никак не может перестать. Надо позвонить Додо и посмеяться вместе с ней, надо позвонить Додо!
Холодное газированное счастье захлестнуло меня, я помчался в столовую, спотыкаясь на ступеньках в темноте, на ощупь нашел в баре бутылку с коньяком и быстро отхлебнул из горлышка. Какое-то время я выглядел, как шут на карте Таро, тот, на которого бросается маленькая собачка, я танцевал в темноте, размахивая бутылкой, я даже пел, кажется.
Здесь я прервусь, Хани, и расскажу тебе немного о своем тюремном дне. Тюремный день делится на несколько плотно пригнанных частей, с небольшим зазором между ужином и отбоем, когда тишина становится особенно нестерпимой, и я слоняюсь по камере, считая шаги, стараясь подавить растущую ярость, желание разбежаться и броситься на дверь, так, чтобы суставы задвижек вылетели из железных пазов. Начинают мой день два смутных рассветных часа, когда я просыпаюсь и принимаюсь растирать себе руки, ноющие от того, что их некуда девать, разве что держать по швам. Подушка похожа на французский багет, руки под нее не помещаются, а шея затекает, как будто голова лежала на камне. Спинку, отвинченную от стула, давно отобрали, и теперь вместо стула у меня табурет. В полдень охранник приносит кувшин с водой и забирает пустой, кувшины фирмы «Шортер и сын», на синем ветка куманики с ягодами, а на белом — ветка малины, ума не приложу, как такая старинная посуда очутилась в тюрьме.
Весь день я жду допроса, после обеда я жду прогулку.
Допросы бывают редко, прогулка же состоится при любой погоде, жаль только, что мой коридор выходит в маленький асфальтовый закуток, где меня и оставляют на сорок минут. Думаю, что остальные арестанты гуляют в большом дворе с другой стороны здания, иногда оттуда доносятся смех, сердитые возгласы и шлепанье кожаного мяча. Я хожу в загоне, будто заведенный (четырнадцать шагов вдоль кирпичной стены и десять, если ходить поперек), или стою, задрав голову, и смотрю в небо, а если идет дождь, то сижу под жестяным козырьком, похожим на те, что ставят на сельских автобусных остановках.
Если подтянуться, то можно заглянуть за стену и увидеть двор, в который я однажды пытался подбросить письмо, полагая, что заключенный, пишущий своей девушке, должен вызвать у обитателей двора сочувствие, но тщетно — на следующий день комочек бумаги лежал на том же месте, основательно размокший под ночным дождем. Листок я стянул на допросе, а письмо было Байше, я спрашивал, отчего она не приходит и не запугал ли ее Пруэнса своими баснями о хозяине-убийце. Хотя, чего там, я и сам знаю, что служанка мне не друг и никогда им не была, это у меня, наверное, от еврейского деда Кайриса — манера считать всех дружелюбных людей друзьями, по умолчанию. Раз не бьют, значит, любят.
Está bem, вернемся к вечеру на Терейро до Паго, я знаю, что ты этого ждешь, а мне про него писать совсем неохота. Ну да ладно. Когда я натанцевался вдоволь и посмотрел на часы, то понял, что провел в доме всего двенадцать минут. Время отшелушивалось медленно, будто эвкалиптовая кора от ствола, так бывает, когда наскоро покуришь и возьмешься делать что-нибудь разумное, например, читать книгу с экрана. Дозвониться Додо мне не удалось, телефон был отключен, я попробовал раза три и решил, что она уже в воздухе, по дороге в Бразилию. Потом я собрался принять душ, сунуть грязные вещи в стирку и лечь спать.
Оставалось включить в доме свет, и, для начала, я пошел взглянуть на пробки в кухне, там их часто выбивало из-за грозы. Кухонная дверь открывалась туго, и я подумал, что, уезжая в Капарику, оставил окно открытым, так что дерево разбухло от ночного ливня.
Я положил фонарик в карман, уперся обеими руками и толкнул изо всех сил. Дверь подалась, я сделал шаг, поскользнулся у самого порога и упал на Хенриетту. Она лежала ничком, на три четверти засунутая в мешок, я свалился ей прямо на спину, уткнулся в ее шею, в скользкий шелковый воротник. В кухне было не так уж темно, я различал антрацитовый блеск мусорного мешка и свою руку, до локтя измазанную кровью. Из полуоткрытой кладовки сочился свет, кто-то огромный возился там с фонарем. Мне почудилось, что я услышал пение, похожее на кошачье урчание, потом упало что-то тяжелое и послышалось сдавленное ругательство.
— Не помещается, — сказал тот, кто ругался, выходя из кладовки и вставая надо мной, — слишком длинные ноги. Мне нужен еще один мешок, не отрезать же ей голову, верно?
Я медленно скатился с Хенриетты и смотрел на него с пола, даже не пытаясь встать. Человек был совсем не таким большим, как мне со страху показалось, он был завернут во что-то вроде длинного дождевика, такие продают в городе на всех углах, когда начинается ливень.
На ногах у него были прозрачные больничные бахилы, а в руках хлебный нож и веревка. Круглый фонарь был прикреплен к полоске на его голове, будто у шахтера, и светил мне прямо в глаза.
— Вставай, — сказал он недовольно, — нечего тут валяться. Где у тебя мусорные мешки? Эта женщина линяет как беспородная сучка, я собрал целый сноп ее волос по разным углам.
Я не видел его лица, зато хорошо разглядел ботинки, я сам всегда хотел такие, болотные «Dr. Martens» с белой прошивкой, как у покойного Джо Страммера. Он подал мне руку в перчатке, я схватился за нее и поднялся на ноги. Свет его фонаря соскользнул на пол, Хенриетта лежала там лицом вниз, из-под черного пластика виднелся испачканный красным край овечьей шкуры.
— Парень, где у тебя мешки? Доставай сам, раз уж ты сюда пришел. Я торопился и прихватил недостаточно материала. Овчина уже промокла. Всю машину мне перепачкает.