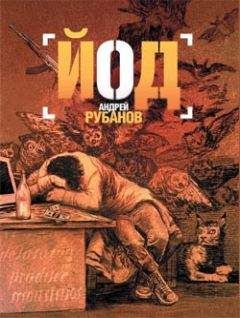Маленький тихий город Электросталь всегда был за спиной. Сын собственных родителей мог вернуться на родину в любое время, за два часа, на поезде или автобусе. Он так и не стал своим в столице. Не нажил настоящего бродяжьего менталитета. Родительский дом, где его всегда ждали, пьяного, грязного, любого, находился слишком близко. Несколько раз он ночевал на вокзалах и однажды неделю прожил в машине – но ради позы. Или в силу любознательности. Связь с местом, его породившим, никогда не разрывалась. Оказавшись на Кавказе, первое время он больше переживал не оттого, что вокруг стреляют, а оттого, 4 что слишком удалился от дома.
Такой домашний герой – вроде бы в холоде, в голоде, но постель и горячая ванна всегда неподалеку. Отец еще в конце семидесятых называл его «альпинистом-надомником» за любовь не к приключениям как таковым, а к изящно оформленным рассказам о приключениях.
Выгнала жена – вроде бы гордо ушел в темноту, чуть ли не в трусах, а на деле поймал такси, и вот уже мамкины плюшки трескает.
Ночью, если захотеть, можно доехать за пятьдесят минут.
Может быть, вся лихорадочность маневров, смена профессий, образов жизни и приоритетов произошла оттого, что забубенность его – не настоящая. Родина – вот она, рядом. В пяти домах без лишних вопросов накормят и спать уложат. В пяти местах без раздумий дадут работу, только потому, что он – Рубановых сын и внук.
Вот вам Одиссей: десять лет на траверзе Итаки.
Дни мои хороши. Лето, солнце, нестарый девятиэтажный дом на краю леса. Я поздно встаю, беру полотенце и пешком, в тапочках, отправляюсь купаться. Есть два водоема, я шагаю на самый дальний, это примерно четыре километра с западной окраины на восточную. Смысл именно в том, чтобы в пластиковых сандалетах на босу ногу, в майке с голыми плечами, никуда не торопясь, пройти сквозь маленький свой городок в табакерке.
На мне обвисшие спортивные штаны – обычная для здешних мест одежда. Тут никто не рядится в шикарные прикиды. Тут не Москва, про каждого все известно. Некому пускать пыль в глаза.
Перед выходом выкуриваю косяк. Я делаю особенные, маленькие косяки, на три затяжки, я не сторонник глубоких погружений – предпочитаю, чтобы слегка мерцало и покачивало. Курить траву, в принципе, можно открыто, в любом месте. Милиции мало, по улицам не рыщут вооруженные патрули. А поймают – не страшно. Есть знакомые, друзья, бывшие одноклассники. Тут мой родной город, вот в чем дело. Конечно, я уехал отсюда десять лет назад, но это даже лучше, иначе каждые пять минут пришлось бы останавливаться и с кем-то болтать. А так – молодежь меня не знает, а ровесники пешком не ходят, у всех машины.
Ровесники думают, что Рубанов крутой, что он миллиардер, что он в шоколаде, в Кремле, на Ибице, в тюрьме, в Лондоне, в могиле, в пентхаусе. Ровесники едут по обсаженным старыми тополями и кленами улицам и не могут себе представить, что вялый тип в старых штанах – это тот самый «наш Рубанов».
Солнце яркое, но я не ношу темных очков. Отвык после Чечни. Там никто не носит светофильтры даже в ослепительный сорокаградусный полдень. Начнут стрелять – придется бежать, падать, очки слетят, и ты ослепнешь на несколько секунд, и станешь беспомощным, и убьют тебя тогда.
Шагаю, расслаблен. После наэлектризованной столицы тут ощущаю себя как у бабушки на печке. Иногда скучаю по Москве, по ее толпам, по сшибающимся вокруг меня энергиям молодых и старых, умных и глупых, богатых и нищих мужчин и женщин, но мой городок в табакерке слишком уютен и дружелюбен, здесь грешно скучать.
Много бодрых стариков. В девяностые им пришлось трудно, но все равно здешние старики – спокойные и опрятные. Все они – бывшие пролетарии, заработавшие в литейных цехах «горячий стаж», вышедшие на пенсию в сорок пять – пятьдесят и получившие от системы мно4 жество льгот и надбавок. Льготы и вознаграждения придумал еще Хрущев, и граждане Электростали всегда были равнодушны к Сталину, а на Хрущева едва не молились.
Бродяг и побирушек нет, деды и бабки сидят по лавкам во дворах, обсуждая малопонятные новые времена.
Сытые кошки. Теплый асфальт. Много густой листвы. Много удобных скамей – присаживайся и сигарету выкури. Тут и там летние кафе. Простые цвета: серые дома, молочно-голубое небо, зеленая трава. Цоколи зданий выкрашены вишнево-коричневым. В старых домах полноразмерные подвалы, оттуда тянет теплым, затхлым, но даже этот запах, вроде бы нездоровый, приятен, он из детства. Его, детства, декорации повсюду. Меня уже нет, а они целы.
Не следует думать, что родной город – унылая дыра. Мое пешее путешествие включает проход мимо огромного торгового центра, мимо ледового дворца, с водоемом в гранитных берегах, по центру – фонтан; сквозь парк развлечений, где дети смеются, оседлав жирафиков, слоников и прочую деревянную фауну. Мимо стадиона, где я занимался всем, чем можно, от волейбола до тяжелой атлетики. И водоем, куда я скоро намерен с разбега прыгнуть, между прочим, создан искусственно.
Пройти Электросталь с запада на восток – все равно что прогуляться по собственному дому, от кухни до спальни. Почти машинальный процесс. Здесь юный мегаломаньяк окреп. Город щедро предложил ему все условия для развития. В тринадцать лет он за полтора часа пешком обходил равноудаленные друг от друга очаги культуры – два кинотеатра и четыре клуба – для ознакомления с киноафишей и осуществления, после обстоятельных раздумий, выбора между «Дознанием пилота Пиркса» и «Козерогом-1»: первый – совместный, советско-польский, он страшнее, другой – американский, интереснее и крепче сделан; в первом человекоподобному роботу отрывают руки и вместо крови из ран вылетают шестеренки и разматываются провода, во втором главный герой в пустыне рвет зубами живую змею; такие моменты смаковались и обсуждались потом в школе неделями, даже до драк доходило, между теми, кто утверждал, что змея не настоящая, резиновая, и теми, кто настаивал на аутентичности гада.
Но наш маленький мегаломан не принимал участия в драках. Он был слабосилен и миролюбив. Лучшим моментом любой драки он полагал финальное примирение сторон со взаимным одалживанием носовых платков для вытирания крови с губ. Правда, носовые платки были не у всех.
И велосипеды были не у всех, и магнитофоны «Весна», и наручные часы «Электроника» с анодированными браслетами, и фломастеры для подчеркивания подлежащего и сказуемого, и синие кроссовки «адидас» с белыми полосками и белыми же длинными шнурками были не у всех, и даже не у многих, – но на фетишах никто не торчал. Питательная среда для зависти и ее производных (вроде детской клептомании или ущемленного самолюбия) отсутствовала. Дистанция между зажиточными и малоимущими была смехотворна и равнялась длине белого шнурка от польских «адидасов». И несовершеннолетний мегаломанчик Андрюша подпитывался не завистью, а любовью. Она была велика, и Андрюша точно знал: когда настанет время, он распространит свою любовь до пределов, ограниченных Солнечной системой. Снабженное его любовью, человечество процветет.
Если киноафиша не сулила ничего любопытного, он тогда шел в библиотеку, чтобы в пятнадцатый раз взять и перечитать «Белый отряд», «Голову профессора Доуэля», 4 «Пылающий остров» или, к примеру, совершенно умопомрачительную повесть Жемайтиса «Вечный ветер», где разумные дельфины пасли стада китов, а человечество вольготно расселилось на прибрежных шельфах и окрест Большого Барьерного рифа, извлекая, на манер капитана Немо, из океанской толщи все необходимое для удовлетворения постоянно растущих потребностей. Интересно, что впоследствии тема экспансии в моря и океаны начисто исчезла из общественных дискуссий и даже из фантастической литературы; в первой половине восьмидесятых все уже забыли про океаны, да и про космос тоже, и носились только с компьютерами. Спасителем цивилизации объявили скучный арифмометр, а не межпланетный корабль и не глубоководный батискаф.
Если дело было летом и книга о разумных дельфинах надоедала, паренек отправлялся в культурный парк, где на гигантской карусели, непристойно визжа, катались, взмывая к самым кронам деревьев, взрослые девки с развевающимися юбками, а внизу по периметру паслись, маскируясь в густых кустах, юнцы, а также взрослые пиздострадатели, пожирая глазами голые бедра и впитывая издаваемые дамскими гортанями звуки восторга. Это было очень крутое сексуальное приключение, карусель, и для подвешенных на цепях девчонок, и для затаивших дыхание наблюдателей. Развратнее и скандальнее цепной карусели считалась только зимняя забава под кодовым названием «горка»: коллективное скольжение по ледяной дорожке с возвышенности в низину, с вращениями, подножками, падениями и обрушиванием на финише всей азартно орущей и гогочущей толпы в сугроб, где можно было анонимно ухватить за грудь или за задницу какую-нибудь отважную, раскрасневшуюся и растрепанную, с оторванными на пальтишке пуговицами четырнадцатилетнюю Ленку или Наташку. Посещающие «горку» Ленки и Наташки считались падшими созданиями; чтобы крупно опорочить девочку, достаточно было распустить в школе слух, что она «ходит на горку».