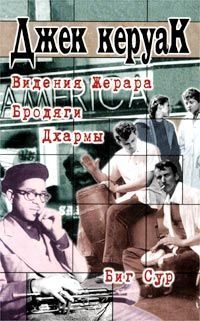— Долина Скагит — только вторая после Нила по плодородию. — Он высадил меня на Шоссе 1-Джи, которое оказалось маленьким переходом до 17-А, вившегося в сердцевину гор и заходившего в самый настоящий тупик на грунтовке у Дьявольской Дамбы. Вот теперь-то я по-настоящему очутился в горной стране. Приятели, подбиравшие меня, работали на лесоповалах, на урановых разработках, на фермах, они провезли меня через последний крупный городок долины Скагит — через Седро-Вулли, там находился рынок окрестного фермерства — а оттуда дорога уже только сужалась и петляла между утесами и рекой Скагит; когда мы переезжали через нее по 99-му, она текла сонно и толстобрюхо среди заливных лугов, а теперь это была чистейшая стремнина, узко и быстро изливавшаяся из таявших снегов меж берегов, заваленных склизким топляком. По обеим сторонам начали громоздиться утесы. Сами заснеженные вершины пропали, отступив за пределы моего поля зрения: я их больше не видел, но начинал сильнее их чувствовать.
В таверне я увидел ветхого старика, который едва мог шевелиться, подавая мне из-за стойки пиво, и я подумал: уж лучша я умру в ледниковой пешере, чем вот в таком пыльном чулане на закате вечности. Парочка, похожая на дуэт Мина и Билла, высадила меня у бакалейной лавки в Соке, а оттуда моим последним водителем стал безумный, пьяный темноволосый гитарист-гуртоправ из долины Скагит, с длинными бакенбардами, который выписывал по дороге стремительные шаткие виражи и завершил свой пыльный полет у Марблмаунтского Лесничества — я был уже дома.
Помощник лесничего стоял и смотрел на нас:
— Вы — Смит?
— Ага.
— Это ваш друг?
— Не-а, просто подбросил меня.
— Кто он такой, что так гоняет по государственным владениям?
Я поперхнулся: я больше не был свободным бхикку. По крайней мере, до тех пор, пока не доберусь до своего горного убежища. Мне пришлось провести целую неделю в Школе Пожарных с целой кодлой молоденьких пацанов: на всех там надели каски, и мы носили их либо прямо, либо как я — лихо заломив набекрень; мы рыли противопожарные рвы в мокрых лесах, или валили деревья, или устраивали себе миниатюрные экспериментальные пожары, и я встретился тут со старинным рейнджером, некогда бывшим лесорубом — с Бёрни Байерсом, тем самым, которого постоянно изображал Джафи своим громким, глубоким и смешным голосом.
Мы с Бёрни сидели у него в грузовичке среди лесов и говорили о Джафи:
— Чертовски обидно, что Джафи в этом году не приезжает. Он был лучшим наблюдателем у нас и, ей-Богу, лучше всех торил тропу — из тех, кого я знал. В нем же зудело все — так он хотел лазить по округе, к тому же он всегда был такой бодрый и веселый — ни разу не встречал пацана лучше него. И никого не боялся, все так прямо и выкладывал. Как раз то, что мне нравится, потому что когда подойдет срок и человек не сможет сказать, что ему хочется, то я тогда, наверное, уйду подальше и повешусь где-нибудь в сарае. Хотя с Джафи вот еще что, где бы он ни провел остаток своей жизни, и плевать, до скольки лет он доживет: ему всегда будет по кайфу. — Бёрни было лет шестьдесят пятъ, и он действительно говорил о Джафи как-то очень по-отцовски. Некоторые другие парни тоже помнили Джафи и спрашивали, почему он снова не приехал. В тот вечер, поскольку была сороковая годовщина работы Бёрни в Лесной Службе, остальные лесничие скинулись ему на подарок — новый широкий кожаный ремень. У старины Бёрни постоянно случалась с ремнями какая-нибудь ерунда, и он в то время подпоясывался каким-то шнурком. И вот он надел новый ремень и что-то сострил о том, что пора прекращать много лопать, и все захлопали в ладоши и закричали. Я прикинул, что Бёрни с Джафи, вероятно, — двое самых лучших людей, что когда-либо работали в этих местах.
После занятий в Пожарной Школе я бродил некоторое время по горам за Лесничеством или же просто сидел у стремительного Скагита с трубкой в зубах и бутылкой вина между колен — и днями, и лунными ночами, а остальные пацаны оттягивались по пиву на местных карнавалах. В Марблмаунте река Скагит текла с ледников стремительно и чисто и была ясно-зеленой; над нею облака окутывали сосны тихоокеанского Северо-Запада, а еще дальше, за ними, вставали пики, и облака плыли прямо сквозь них, а иногда рвано проглядывало солнце. Он был произведением спокойных гор — этот бурный поток чистоты у моих ног. Солнце играло на бурунах, топляк цеплялся из последних сил. Птички чиркали по-над самой водой — шпионили за рыбой, которая где-то улыбалась себе втихушку и лишь изредка выпрыгивала из воды, на лету изгибая спину, и вновь плюхалась в реку, с шумом спешившую дальше и стиравшую саму рыбью лазейку, и всё уносилось вперед. Со скоростью двадцать пять миль в час мимо проплывали бревна и коряги. Я прикинул, что если в узком месте попытаться тут переплыть, то прежде, чем вышвырнет на другой берег, меня снесет вниз по течению примерно на полмили. Тут была речная страна чудес, пустота золотой вечности, запахи мха и коры, веточек и грязи — завывающая ткань таинственных видений у меня перед самыми глазами, и тем не менее — безмятежная и нескончаемая: гривы деревьев на гребнях гор, танцующий солнечный свет. Когда я поднял глаза кверху, облака приняли, как я это воспринял, выражение лиц отшельников. Сосновые сучья, похоже, были довольны купанием в водах. Верхние деревья, обернутые туманом, тоже выглядели удовлетворенными. Тряские солнечные листочки северо-западного ветерка, казалось, взросли только чтобы радоваться. Высокие снега на горизонте — без единого следа на них — были какими-то убаюканными и теплыми. Все вокруг пребывало непреходяще отвязанным и четким, оно всё и везде было за пределами истины, за пределами голубизны пустого пространства.
— Горы здорово терпеливы — а, чувак Будда? — произнес я громко и отпил из бутылки. Было зябко, но когда выглядывало солнышко, пень, на котором я сидел, превращался в докрасна раскаленную духовку. Когда же я возвращался к нему при свете луны, весь мир походил на сон, на фантом, на радужный пузырь, на тень, на испаряющуюся росу, на вспышку молнии.
Наконец, мне подошло время упаковываться на свою гору. Я на сорок пять долларов накупил круп в крохотном марблмаунтском бакалейном магазинчике, мы загрузили все это в грузовичок — погонщик мулов Хэппи и я, — и выехали вверх по реке к Дьявольской Дамбе. Пока мы ехали, Скагит становился все уже и бурливее; в конце концов, поток начал неистово биться о камни, подпитываемый боковыми водопадами, срывавшимися с тяжело-лесистых обрывов: поток дичал и оскаливался камнями. В Ньюхэйлеме реку Скагит перегораживала плотина, еще одну запруду образовывала сама Дьявольская Дамба, где гитантский подъемник, типа питтсбургского, возносил вас на платформе до уровня озера Дьябло. Эту местность в 1890-х годах охватила золотая лихорадка; старатели пробили тропу сквозь сплошные скальные утесы в горловине между Ньюхэйлемом и последней дамбой, образовавшей теперь озеро Росс-Лейк, и застолбили все водосбросы ручьев Рубинового, Гранитного и Каньонного — эти участки так никогда и не окупились. Теперь же большая часть этой тропы все равно ушла под воду. В 1919 году в верховьях Скагита бушевал пожар, и все места вокруг Опустошения — моей горы — горели целых два месяца, наполняя небеса над Вашингтоном и Британской Колумбией дымом, застилавшим свет солнца. Правительство пыталось с ним бороться, послали даже тысячу человек, установили непрерывные цепочки снабжения — а доставка из марблмаунтского пожарного лагеря тогда занимала три недели, и обугленные коряги, как мне сказали, до сих пор торчат на пике Опустошения и кое-где в долинах. Вот почему его так и назвали: Опустошение.
— Парень, — сказал мне смешной старина Хэппи, погонщик, который до сих пор носил обвисшую ковбойскую шляпу в память о днях в Вайоминге, сам сворачивал себе самокрутки и травил байки, — не будь таким, как тот пацан, что сидел у нас несколько лет назад на Опустошении, мы его туда подняли, а он был совсем еще зеленый, и я упаковал его прямо на пост, и он попытался поджарить себе яичницу на ужин, разбил яйцо, промазал мимо своей хреновой сковородки, даже мимо своей хреновой плиты промазал, желток приземлился ему прямо на сапог, и он просто не знал, сквозь землю ему провалиться или сделать вид, что так и задумано, а когда я уходил, то сказал ему на прощанье, чтоб он слишком-то тут не дрочил, а этот щегол мне ответил лишь: «Хорошо, сэр, ладно, сэр».
— Да мне вообще плевать, я просто хочу просидеть наверху один все лето.
— Это ты сейчас так говоришь, а скоро совсем по-другому запоешь. Все на словах такие храбрые. А потом начинаешь сам с собою разговаривать. Это-то еще ладно — главное, сынок: не начинай себе же отвечать. — Старина Хэппи повел мулов по тропе через горловину, а я на лодке проплыл от Дьявольской Дамбы до подножия Дамбы Росс, откуда открывались величественные и ослепительные виды на горы Национальното Заповедника Маунт-Бейкер, широкой панорамой охватывавшие озеро Росс-Лейк, которое сияюще вытягивалось до самой Канады. У Дамбы Росс, чуть поодаль обрывистого лесистого берега были привязаны плоты Лесничества. Ночевка на них оказалась делом трудным — они покачивались на воде, а когда волны ударялись в бревна, раздавались гулкие шлепки и не давали уснуть.