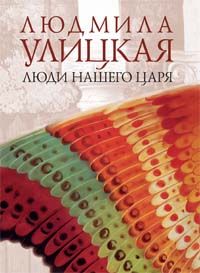Ознакомительная версия.
Мы с мамой переглядывались. Мама сжала губы и надула щеки - умирала от смеха. Чемодан наполнился до половины, но речь хозяйки все не кончалась. Груши тоже не кончались, и не кончались кавказские народы…
Длинные серьги с красными кораллами мелко позвякивали в ушах. Мне она казалась старой - лет сорок или шестьдесят - и очень страшной: большие, в темной кожистой оправе глаза и золотые зубы.
– Что грузины?- продолжала она.- Пыль в глаза! Дым! Вай! Вай!- один пустой разговор! Пустой народ! А, что грузины? Тут аджарцы есть, в Батуми, так они - смех, а не народ!- хуже всех живут, мамалыгу одну едят, а тоже… О себе много думают!
Заполнялись последние ряды. Один ряд груш она укладывала основанием вниз, следующий вниз вершинкой. Кавказские народы - аварцы, осетины, балкарцы, ингуши и другие, нам не ведомые, расставлены были по местам, по нисходящей лестнице, где каждый вновь упоминаемый был еще хуже предыдущих.
Груши кончились одновременно с народами. От земли чемодан не отрывался. Ручка отлетела от него в первую же минуту. Выкатили из сарая шаткую тележку на двух колесах, кликнули Хуту, который давно стоял у забора с видом случайного присутствия, и он помог взгромоздить чемодан, превратившийся уже в сундук.
Мама, расплачиваясь за свою алчность к грушам, претерпела с чемоданом большие мученья: пока доставляли на вокзал, втаскивали в вагон, размещали в отсеке плацкартного вагона, забитого такими же курортниками, как мы, с фруктовыми чемоданами, среди которых наш был чемодан-царь.
Он лежал на боку, занимая все пространство между нижними полками, и мама извинялась перед всеми пассажирами за неудобство, была растеряна и даже несколько заискивала.
В Москве нас встречал папа, и он тоже высказал маме все, что полагается. Двое носильщиков и папа с трудом вознесли чемодан на багажник старого «москвича», и мама тоже толкала чемодан сбоку.
Груши медленно дозревали на шкафах, завернутые в газеты на неведомом кавказском языке, и в комнате до зимы пахло грушами. Они постепенно доходили, и даже после Нового Года еще оставалось несколько красавиц.
До сих пор вкус и запах груш вызывает в памяти этот рассказ о дружбе народов. Кстати, мы так и не узнали, кто же была по национальности та женщина из Гудаут.
Первая в жизни командировка оказалась очень удачной: Карпаты. Там, на винных заводах и плодово-овощных фабриках я должна была собирать научный материал для диссертационной работы. Еще не вполне было ясно, о чем будет диссертация, но определенно было одно: я, свежая аспирантка, через три года стану кандидатом наук в интереснейшей области - генетика популяций.
Я уже начала наблюдать популяции, которых вокруг было навалом - западняне, русские, украинцы, венгры, чехи, евреи, поляки… Но в научном отношении меня интересовали исключительно мухи. Плодовые мушки дрозофилы. Именно с них я и начала.
Я приезжала на заводы - в Стрый, Дрогобыч, Ужгород, Мукачев. Не помню уже, в какой последовательности. Показывала командировочное удостоверение, которое долго рассматривал усатый человек в вышитой рубашке или толстая тетка с волосяной башней на макушке. Чаще - усатый. Они сразу понимали, что я из ОБХСС, и хочу им заморочить голову этим бланком Академии Наук.
– Мухи, говорите? Дык нема у нас мух!- и глаз зажигался новым подозрением: если не ОБХСС, то санэпидстанция…
Но я была молода, энергична, обладала обаянием столичного жителя, да еще из Академии Наук,- впрочем, это мы еще проверим!- и собой недурна. Во всяком случае, один усатый сказал другому «Яка гарна жидовочка!». И я захохотала. Не то что бы я не знала, как просеивали здешнее население, чтобы вытравить пару лишних популяций - евреев, цыган,- но была свободна и весела.
Мух я собирала в пробирку с кормом, затыкала клочком серой ваты и отправляла с проводником в Москву. Там их встречал мой коллега, отвозил в лабораторию, перетряхивал в другую пробирку, а в той, моей, уже лежали отложенные яички… Для науки.
Я сидела на горке над городом Ужгородом, и зеленые Карпаты ласково и округло простирались во все стороны, и небо было ясным, образцово-синим, с одним декоративным облачком прямо над головой.
Сначала возник звук - тревожный и жалящий, и не сразу понятно было, откуда он несется. А потом я увидела самолеты. Они шли тройками, но троек было так много, что, мне показалось, они заняли полнеба. Они летели в Чехословакию,- и я поняла, что началась война.
Они пронеслись надо мной, унося за собой звук, которого было даже больше, чем самолетов. Карпаты об этом ничего не знали: ничего не шелохнулось в их спокойной округлости, и ясная зелень не затуманилась.
С сорок пятого года прошло двадцать три года. Та война началась с захвата Польши, эта - с Чехословакии,- вот оно что.
«Надо быстро идти на вокзал, покупать билет»,- думала я, но встать не могла. Я остро ощущала, что все переломилось, что уже не важны дрозофилы, что через несколько минут из серебристых самолетиков посыплются бомбы на Прагу, и все здешнее благолепие - мираж прошлого мира…
Я все сидела, и снова раздался самолетный звук: они возвращались. Как выяснилось впоследствии, не отбомбившись.
Когда я вернулась в Москву, моя подруга Наташа уже была арестована. Она вышла на Красную площадь с коляской, в которой спал трехмесячный сын Оська, вместе с семью такими же безумцами и маленьким плакатиком «За свободу нашу и вашу». И просидела пять лет в тюремной психиатрической больнице. Что же до меня, диссертацию я не защитила.
Ангелы, вероятно, иногда засыпают. Или отвлекаются на посторонние дела. А, возможно, встречаются просто нерадивые. Так или иначе, в Страстную субботу произошло ужасное несчастье: очень пожилая дама - семидесяти пяти лет - стояла в густой очереди на автобусной остановке с аккуратной сумкой, в которую были упакованы кулич и пасха, и ожидала автобуса. Она была дочерью известного русского поэта серебряного века, вдовой известного художника, матерью многих детей, бабушка и даже прабабушка большого выводка молодняка. Огромный круг ее друзей и почитателей звал ее НК - по инициалам.
НК была высоким во всех отношениях человеком, и ее невозможно было унизить ни одним из тех способов, на которые была так изобретательна наша власть. Ее переселили из квартиры в центре, в которой она прожила несколько десятилетий, на дальнюю окраину, но она не изменила ни одной из своих привычек, в частности, освящать куличи в церкви Иоанна Воина, неподалеку от своего прежнего дома.
В ней не было ничего старушечьего и подчеркнуто-церковного: ни платочка, ни согнутых плеч. В большой изношенной шубе, в черной беретке, она терпеливо ожидала автобуса и едва заметно шевелила губами, дочитывая про себя утреннее правило.
Подошел автобус. Она стояла среди первых, но ее оттеснили. Оберегая сумку, она отступила, потом рванулась к подножке. Шофер уже закрыл двери, но люди держали задвигающиеся створки, чтобы втиснуться, и она тоже ухватилась свободной рукой за дверь, и даже успела поставить ногу на подножку, но автобус рванул, кто-то сбросил ее руку, нога заскользила прямо под колесо, и автобус проехал по ее длинной и сильной ноге.
Во время Пасхальной заутрени НК отходила от наркоза. Ногу ампутировали. Утром пришли первые посетители - старшая дочь и любимая невестка. НК была очень бледна и спокойна. Она уже приняла происшедшее несчастье, а две женщины, возле нее сидящие, еще не успели понять этого и найти слова утешения. Они скорбно молчали, сказавши «Христос воскресе» и трижды с ней поцеловавшись. НК тоже молчала. Потом улыбнулась и сказала:
– А разговеться принесли?
Невестка радостно блеснула глазами:
– Конечно!
И выложила на тумбочку маленький кулич с красной свечкой на маковке.
– И все?- удивилась старая дама. Руки смирно лежали поверх одеяла, правая на левой, и мерцало обручальное кольцо и большой сердоликовый перстень. Их не смогли снять перед операцией - въелись.
Невестка вынула из сумки шкалик коньяка. Все заулыбались.
Посторонних в послеоперационной палате не было. Невестка и дочь встали и тихо пропели пасхальные стихиры. У них были хорошие голоса и навык к пению.
Накрыли на тумбочке пасхальный стол. Съели по куску ветчины и выпили по глотку коньяка.
Я навестила НК, когда она уже выписалась из больницы. Она боком сидела на лавочке, сделанной когда-то ее мужем. Культя лежала перед ней, а второй ногой, длинной и очень красивой, она опиралась о пол.
Она положила руку на остаток ноги, похлопала по ней и сказала ясным голосом:
– Я все думаю, Женя, для чего мне это?
Я не сразу поняла, о чем она говорит… Она продолжала:
– Не сразу сообразила. Теперь знаю: я всю жизнь слишком много бегала да прыгала. А теперь вот мне сказали: посиди и подумай…
Ознакомительная версия.