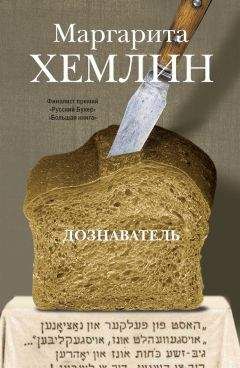— Гриша, ты все гроши у Зуселя взял или оставалось? — я спросил спокойно, между прочим, когда нас подкинуло на очередной ямке.
Гришка ответил на выдохе, весело:
— Все. — И спохватился. Но с вызовом продолжал держать улыбочку.
— Для чего, почему — не спрашиваю и не спрошу. Но как? Как ты их забрал, что никто не узнал?
— Просто. Малка думала, что я пошел на улицу. А я не пошел. Она гроши завернула в газету, потом в тряпочку, потом в карман пиджака Зуселя засунула. Засунула и сколько-то раз вынимала — обратно засовывала. Вроде пробовала, как там держится. А Зусель с утра собирался в Чернигов. Малка всегда говорила всем, что Зуселя нельзя трогать, он сильно мало соображает. Она за него все старалась делать. И ложку ему до рта несла. Он аж злился. Ну, она гроши ему в пиджак засунула, пиджак на гвоздь привесила в сенях и пошла Зуселя звать, чтоб шел снидать и в дорогу. Я, пока ее не было, пакунок вытянул с кармана Зуселя. Гроши взял, туда газету сложенную положил. По старым сгибам свернул, потом тряпочкой сверху. Как было. Я умею, как было. У меня получается. Зусель пришел, поснидал, пиджак напялил и попхался. Карман похлопал. У меня сердце захололо. А он похлопал, и всё.
Малка ему гирчит и гирчит, на карман показывает. Зусель головой дрыгает, держится за карман. Так и ушел. Как он вернулся, я хотел отдать назад. А куда назад? Малка кричит. Дед кричит. Зусель молчит. Я подумал — вдруг они подумают, что он гроши потерял? Или протратил? Пускай, думаю. А они у Суньки на сохранении. Восимсят рублей. Ого! Целых же ж восимсят!
— А торбочку эту видел? — Я достал из своего вещмешка кисет.
— Видел, — неохотно согласился Гришка. — Меня дед просил сначала развязать, а потом завязать, как было. Я и сделал. Вы папку учили. И я тоже научился. Лучше папки.
— И что тут внутри, знаешь?
— Конечно, знаю. Тут приданое Евки. Когда замуж соберется, ей отдадут, чтоб жених ее взял. А она сама растратить боится и деду отдала, чтоб смотрел. Она сама приезжала и просила: «Давай откроем, возьмем трохи оттуда». А дед ее прогнал.
— И когда это Ева просила?
— Когда немого Зуселя привезла. Я слышал.
— А ты сам внутрь не заглянул, когда завязывал?
— Хотел, дед запретил. Сказал, кто в чужое приданое заглянет, сам никогда детей не родит. Оно мне надо? Бабское к тому же. Если б финка или пистолет.
— Финка? Как у меня в сидоре? Да? Гриша?
Гришка совсем опустил голову.
— Зачем ты ко мне в сидор лазил, хлопчик? Кто тебя подучил?
— Никто. Я сам. Я думал, что у вас там пистолет. Или еще что. А там финка. Я хотел еще и фонарик. Но я только финку взял. Завязал по-старому. Финку спрятал. Дед нашел, отлупил. Финку забрал себе. Вы меня не возьмете теперь?
— Возьму. Всего тебя возьму. С потрохами твоими несчастными. Что ты мне рассказал — молодец. Имей в виду — если честно признаться, потом можно и забыть. Не совсем, а трохи внутри у себя притаить. Но глубоко — помнить. И не повторять. Я тебе обещаю, что не попрекну. А ты мне обещаешь, что запомнишь и не повторишь. Ты не вор. Ты сбился с пути. А теперь опять стал. Понял?
Гришка кивнул и подлез ко мне под бок. Он закрыл глаза и заснул. Вовка давно сопел с другой стороны.
И я тоже закрыл глаза для подведения очередной черты.
Хотел ее переступить. Но она уже оказывалась не черта, а борт повыше полуторки. И я ногу задрать не осилил. Заснул.
Но успел похвалить себя: правильно ощутил, что говорили Довид и Гришка про разное. У Довида — свое, у Гришки — свое.
У всех — свое.
Родной дом нас встретил вкусной едой. Борщ, пампушки, другие блюда украинской кухни. Узвар, например. Сухофрукты от Диденко, наверно. Больше неоткуда. Прошлогодний урожай. Этого года не успел.
Люба по большинству молчала, только приобнимала хлопчиков и уговаривала кушать. Ганнуся помогала ей и тоже ласково обращалась с Гришкой и Вовкой. Ёська трохи покапризничал — забыл братьев, потом начал с ними заигрывать.
Когда все угомонились, я спросил, для слова, что Любочка делала целый день.
Она сказала:
— Сидела.
На вопрос, кто приготовил пампушки и остальное, ответила:
— Лаевская.
Я спросил, под каким предлогом она явилась.
Люба ответила, что позвонила Лаевской от соседки.
Мое удивление Люба пресекла:
— Лаевская Ёську выходила, других подруг у меня нету. Мне поговорить надо было с кем-то, по-женски. Я б с ума сошла, если б не поговорила.
— Подождать меня и со мной побеседовать не могла? Я тебя и по-женски, и по-всякому знаю наизусть с закрытыми глазами.
Люба твердо сказала, что со мной больше говорить не намерена. Жить — да. Будет. И как жена, и как вообще. Но говорить и обсуждать — нет.
Мы перешептывались с ней через головы детей. Я побоялся, что они проснутся, и пригласил Любу выйти на кухню.
Она встала и пошла. Я — за ней.
И тогда она мне выложила.
Диденко ей рассказал про письмо якобы Зуселя. Что там писалось. И высказал предположение, что я что-то сделал против закона, потому органы — выше милиции — под маскировкой Зуселя собирают на меня материал. И чтоб Любочка береглась. И берегла детей.
Письмо Микола Иванович оставил без ответа. Но когда я к нему пришел, связал мое появление с этой цидулкой. Потому и не удивился.
То, что не со слов Табачника письмо накалякано, Диденко не сомневался. И получалось, что теперь я припутаю и его к своему делу.
Что я вывел разговор на Зуселя, Диденко принял спокойно — подтвердилось его опасение, что имеет место провокация. Или с моей стороны, или черт знает с чьей.
Он вздохнул свободно, когда я уехал. Но после получения моей письменной просьбы приютить на лето Любочку с детьми окончательно растерялся. При этом для себя решил: пора ему сводить счеты с жизнью по-хорошему. То есть пора умирать от старости. Чем он избегнет участия во всей этой истории. Он сделал себе гроб и передал свои вещи в мою семью, чтоб они еще принесли пользу. Как сельскому человеку, ему невыносимо было думать, что добро пропадет в неизвестных чужих руках.
Люба закончила рассказ так:
— Петро за ним доследит до последнего вздоха. Мы с ним обсуждали. А ты мне, Миша, скажи от всей души, что ты сделал? Почему кругом тебя люди умирают и своей смертью, и особенно не своей? От какой причины? Ты меня попрекаешь, что я с Лаевской советоваться захотела, а не с тобой. Ну, теперь с тобой. Что ты мне скажешь?
Я попросил, чтоб Любочка сначала сказала, что ей посоветовала Полина.
— Полина ничего не посоветовала. Она тесто месила и в магазин за продуктами бегала. Ты выгрузил нас — и опять бегом-скоком. Ничего Полина не сказала. Боялась, что ты ее тут застанешь. Спешила уйти.
— А я тебе, Люба, отвечаю: я ни в чем не виноватый. Ты старику чужому веришь, Лаевской веришь, всем веришь. Только не мне. А что Лаевская тебя даже в больнице мучила белибердой всякой — ты забыла? Забыла, что она тебя Лилькой Воробейчик в глаза тыкала? — Я сказал лишнее.
Но Люба с готовностью ответила:
— А, Лилька… Вот про Лильку как раз Полина только и заикнулась. Что ей стыдно сейчас, что не надо было мне в больнице про твою Лилечку говорить. Так и повторила два раза, два: «Мишину Лилечку». Я захотела уточнить, но Полина зажала себе рот. И так зажала, что аж зубы у нее внутрь ушли. Но я поняла. Ты меня приготовился Петром слепым укорять. Я думала, подожду, когда начнешь. Потом и скажу. А теперь ждать не буду. Я хотела, чтоб с Петром у меня случилось. И он хотел. Не получилось. Второго раза не представилось. Это у тебя все всегда получается. Ты меня берег, и когда спали с тобой, берег. А я хотела, чтоб ты меня насквозь, как бабы рассказывали, чтоб я криком кричала. Ты меня до костей объел, а осторожненько. До самых костей. Доберегся. Пускай теперь детям — что осталось от меня.
Я спросил, если она приемных детей не хочет, почему не сказала заранее. Если наперед видела мои действия. Про личную часть оставил без внимания. Чтоб не заострять.
Люба пожала плечами:
— Почему я детей не хочу? Это ты хочешь или не хочешь. У меня таких слов нету. Ты захотел Евсеевых детей — всех, и привел. И я их буду любить и растить. Только не потому, что ты так решил, а потому что мне все равно, кого любить, кому себя на корм изводить. Только б не тебе. Не тебя собой кормить.
Люба стояла возле подоконника, про который раньше советовала, что к нему надо приделать доску — кушать вместо стола. Я прикидывал, какой широты понадобится доска. Не меньше сороковки.
В основном не слушал.
Спросил, или давала она раньше ключ от нашей квартиры Лаевской.
Люба сказала, что давала. Перед своим отъездом в Рябину. Чтоб Полина по хозяйству, если понадобится, меня не тревожила, а сама приходила по договоренности со мной.
— А с чего ты взяла, что я могу с ней договорить про хозяйство или еще про что? Ты знаешь, я ее терпеть не могу.