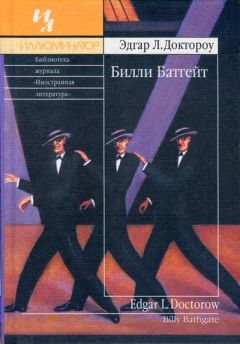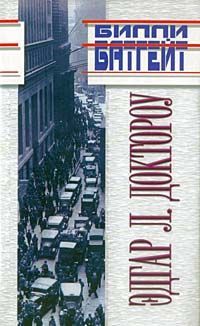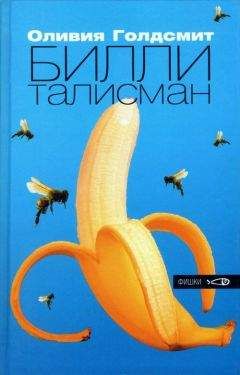— Женщины и бега опасны даже в отдельности. Вместе они просто гибельны. Если ты справишься с Саратогой, малыш, тогда тебе все по плечу. — Он откинулся на спинку сиденья и закурил. Я вышел из машины, взял из багажника чемодан и махнул рукой на прощанье. Мне казалось в тот момент, что я знаю пределы возможностей мистера Бермана; он сидел в машине просто потому, что ближе к зданию суда приблизиться не смел; он не мог пойти туда, куда хотел, жалкий горбатый человечек, который любил очень ярко одеваться и курить сигареты «Олд голд», только две эти слабости он и мог себе позволить в своей строго расчисленной жизни; оглянувшись, я увидел, что он смотрит мне вслед, бедный придаток Немца Шульца, его яркое отражение, зависимое и необходимое. В каком-то смысле именно он и управлял поразительным гением сокрушающей силы, который, оступившись, уже не поднимется никогда.
Мгновение спустя на площади появился красивый темно-зеленый автомобиль с четырьмя дверцами и откидывающимся верхом, я не сразу понял, что за рулем Дрю, машину она не остановила, а лишь притормозила; я закинул чемодан на заднее сиденье, вскочил на подножку и, пока она переключала скорость, перевалился через дверцу на переднее сиденье, и мы уехали.
Я не оглядывался. Миновав на главной улице отель, с которым я мысленно попрощался, мы направились к реке. Я понятия не имел, где она раздобыла такую игрушку. Она себе, конечно, ни в чем не отказывала. Сиденья были покрыты светло-коричневой кожей. Желтовато-коричневый брезентовый верх был откинут и свернут на хромированных стояках, большая его часть тонула в специальной нише. Приборная доска была облицована хорошим деревом. Я сидел, положив руку на дверцу и откинувшись на сиденье, и наслаждался теплом; она повернулась ко мне с улыбкой.
Здесь я расскажу, как Дрю Престон водила машину; она делала это как-то по-девчоночьи; переключая скорость, она вся наклонялась вперед, ее стройная ножка, закрытая платьем, нажимала резко на сцепление, плечи она опускала, губу закусывала, а руку, лежащую на набалдашнике переключателя скоростей, начинала двигать прямо от плеча. На шее у нее была повязана косынка, она радовалась, что я сидел с ней рядом в ее новой машине, мы прогромыхали по деревянному мосту и выехали на развилку, от которой одна дорога уходила на восток, а другая — на запад, она свернула на восток, и от Онондаги остался только церковный шпиль да несколько крыш за деревьями; когда мы обогнули холм, исчезло и это.
Дорога шла среди гор и озер, мы мчались сквозь сосновые рощи, мимо маленьких белых деревенек, в которых единственный магазин занимал одно здание с почтой; она вела автомобиль сосредоточенно, положив обе руки на руль, и это выглядело со стороны столь заманчиво, что мне хотелось сменить ее и ощутить эту громадную восьмицилиндровую машину в своей власти. Но единственное, чему я пока не научился в своей гангстерской школе, это водить машину, а все же я убеждал себя, будто водить машину умею, хотя и не рвусь, — а вдруг она предложит мне попробовать? — я жаждал равенства, таким абсурдным желанием обернулась моя страсть; теперь-то я понимаю, каким несносным мальчишкой я был, как ненасытна была моя гордыня, но в то утро, утро нашей поездки среди дикой девственной природы, я должен был осознать, как далеки от меня нынешнего улицы Восточного Бронкса, где естественный мир явлен только в кучках конского навоза, раздавленного автомобильными шинами, из которого городские ласточки выклевывали сухие семена; я должен был почувствовать, каково дышать воздухом этих солнцем согретых гор в полном здравии, с тысячей долларов в кармане и с копошащимися в сознании видениями самых зверских убийств наших дней. Теперь я был серьезный парень, за поясом у меня торчал настоящий пистолет, и я понимал, что благодарить мне за это некого, что я должен принимать все как должное, поскольку всему этому есть цена, и цена настолько высокая, что я имею право насладиться тем, чем сейчас обладаю; я вдруг ощутил, что сержусь на Дрю; не отрывая от нее глаз, я мысленно рисовал себе все, что сделаю с ней, и, должен сознаться, мне доставляли удовольствие гадкие садистские картинки, порожденные моим горьким мальчишеским смирением.
И, разумеется, остановились мы тогда, когда этого захотелось ей; она бросила на меня взгляд, мелодично вздохнула, дескать, она сдается; мы резко свернули с дороги и запрыгали на кореньях, лавируя между деревьями; отъехав ровно настолько, чтобы нас не было видно из проезжающих мимо машин, мы остановились под высокими деревьями и сидели, молча глядя друг на друга в полном одиночестве; сквозь пятнистые кроны солнце то грело нас, то заливало ярким светом, легкая тень сменялась зеленоватым мраком.
Надо сказать, что Дрю в сексе шла окольными путями, сначала она целовала мои ребра и белую мальчишескую грудь, гладила бедра, ласкала мой анус, обсасывала мочки ушей и рот, и все это она делала так, словно ничего другого ей и не хотелось; она издавала короткие звуки от одобрения или удовольствия, будто комментируя свои действия; я слышал вздохи, бессловесные шепотки самой себе; она постепенно пожирала меня, съедала и выпивала, и совсем не для того, чтобы возбудить меня, какого мальчишку в такой ситуации требуется возбуждать? Я разбух с того самого момента, когда она остановила машину, и ждал, что она наконец обнаружит и эту часть моего тела, но она все медлила и медлила, и мне, в конце концов, стало нестерпимо больно; я думал, что сойду с ума, занервничал и только тут осознал ее достижимость, понял, что всем этим она лишь ждала, чтобы я сам открыл ее абсолютную готовность застыть и, для разнообразия, прислушаться ко мне. Это было по-девчоночьи, на удивление сдержанно и покорно, я не был искусен, я был просто самим собой, она заговорщицки хихикнула, испытывая удовольствие от собственного великодушия, не от возбуждения, а скорее от счастья принять в себя такого вот мальчишку; она обхватила меня ногами, и я, высунув ноги из открытой задней дверцы, раскачивал нас вверх и вниз на заднем сиденье, и, когда я кончил, она обняла меня так, что я вздохнуть не мог; она всхлипывала и целовала мое лицо, будто со мной случилось что-то ужасное, словно меня ранили, а она в порыве безнадежного сочувствия старалась поправить непоправимое.
Потом я шел за ней, совершенно голой, сквозь кустарник в такую неистовую зелень — которую она выбрала намеренно, а может, и случайно, потому что умела превосходно концентрировать мир вокруг себя, — что она навсегда запечатлелась в моей памяти, я шел за мелькающим белым телом, огибая деревья под переплетенными кронами, уклоняясь от хлещущих веток; вокруг щебетали невидимые птицы, напоминая мне о том, как поздно я их для себя нашел. Земля становилась все болотистей, а воздух все влажнее; я начал шлепать себя по голому телу в месте укусов; мне захотелось догнать ее, схватить и трахнуть еще раз; зачем она привела меня в это комариное царство? Но тут я наткнулся на нее, она сидела на корточках, пригоршнями черпала грязь и покрывала ею свое тело; мы стали обмазывать друг друга грязью, а потом пошли, как дети, в сгущающуюся темноту леса, как попавшие в ужасную беду сказочные дети, держась за руки, а беда наша и на самом деле была нешуточной, и вдруг мы оказались у тихого пруда, такой черной воды мне в жизни видеть не приходилось, и Дрю, конечно, вошла в него и меня за собой потащила, Боже, ну и вонища там стояла, было тепло и пенно, ноги мои тонули во влажном ковре прудовой травы, мне пришлось переставлять их, чтобы не завязнуть, а они вязли, она проплыла на спине несколько ярдов, а затем поползла на четвереньках; тело ее покрылось невидимой слизью, мое тоже, мы легли в эту жижу, и я вонзился в нее и, вдавливая ее белокурую головку в грязь, я накачивал на нее слизистую муть; мы лежали, колыхаясь в этой грязной жиже; я кончил, схватил ее так, чтобы она не могла и пошевелиться, и остался в ней, слыша ее громкое дыхание прямо в мое ухо; подняв голову, я заглянул в ее обеспокоенные зеленые, с паническими искорками глаза, потом снова набух прямо в ней, и она начала двигаться, на этот раз все продолжалось долго, на третий раз всегда получается долго; и я услышал ее первобытный голос, похожий на смертельный хрип, пронзительный бесполый лай; я снова и снова вонзался в нее, хрипы перешли в дрожащий отчаянный плач, и вдруг она так пронзительно вскрикнула, что я решил, будто сделал что-то не так, поэтому я слегка отстранился, чтобы взглянуть на нее; губы ее в судороге обнажили зубы, зеленые глаза затуманились, они потеряли всякий смысл, словно она обезумела, впала в детство и беспамятство, и на какое-то мгновение они вообще потеряли все человеческое, превратившись в глаза бездуховного существа.
Но вскоре она уже улыбалась, благодарно целовала и обнимала меня, словно я сделал для нее что-то очень приятное, подарил цветок или что еще.