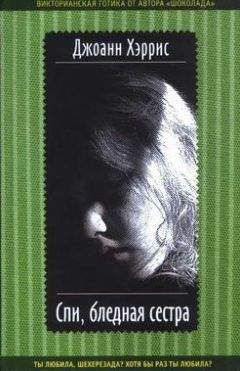Я сказал: почти.
Я знаю свой долг. Теперь я сплю очень мало, ужесточив наложенную на себя епитимью, дабы избавиться от своих постыдных порывов. Все мои суставы нестерпимо ноют, но я рад этой отвлекающей боли. Физическое наслаждение — лазейка для дьявола, трещина, через которую он запускает свои щупальца. Я избегаю приятных запахов. Ем один раз в день, и то самую простую и безвкусную пищу. Когда не исполняю обязанности по приходу, обустраиваю церковное кладбище, вскапывая клумбы и пропалывая сорняки у могил. За последние два года кладбище пришло в запустение, и я испытываю неловкость, когда вижу буйные заросли в этом некогда ухоженном саду. Среди злаковых трав и чертополоха растут в изобилии лаванда, душица, золотарник и шалфей. Такое немыслимое разнообразие запахов выбивает меня из равновесия. Я предпочел бы упорядоченные ряды кустов и цветов, может, обнес бы кладбище живой изгородью. Нынешняя пышность вызывает возмущение. Это жестокая, беспринципная борьба за существование: одно растение душит другое в тщетной попытке добиться господства. Нам дана власть над природой, сказано в Библии. Но я отнюдь не чувствую себя властелином. Меня мучает беспомощность, ибо, пока я копаю, подрезаю, облагораживаю, неистребимые армии зеленых сорняков просто-напросто занимают свободные позиции у меня за спиной, и, вытягивая вверх свои длинные зеленые языки, насмехаются над моими усилиями. Нарсисс наблюдает за мной со снисходительным недоумением.
— Лучше бы посадить здесь что-нибудь, pere, — советует он. — Засеять свободные участки чем-нибудь стоящим. А то сорняки так и будут лезть.
Он, разумеется, прав. Я заказал сотню разных растений из его питомника — покорных растений, которые я высажу стройными рядами. Мне нравятся бегонии, ирисы, бледно-желтые георгины, лилии — чопорные пучки цветков на концах стеблей, красивые, но лишенные аромата. Красивые и неагрессивные, обещает Нарсисс. Природа, прирученная человеком.
Посмотреть на мою работу пришла Вианн Роше. Я не обращаю на нее внимания. На ней бирюзовый свитер, джинсы и красные замшевые туфли. Волосы ее развеваются на ветру, словно пиратский флаг.
— У вас чудесный сад. — Она провела рукой по зарослям, зажала кулак и поднесла его к лицу, вдыхая осевший на ладони запах. — Столько трав, — говорит она. — Мелисса лимонная, душистая мята, шалфей…
— Я не знаю названий, — резко отвечаю я. — Я не садовник. К тому же это все сорняки.
— А я люблю сорняки.
Разумеется. Я чувствую, как мое сердце разбухает от злости, — а может, от запаха? Стоя по пояс в колышущейся траве, я вдруг ощутил неимоверную тяжесть в нижней части позвоночника.
— Вот скажите мне, мадемуазель.
Она послушно обращает ко мне свое лицо, улыбается.
— Объясните, чего вы добиваетесь, побуждая моих прихожан бросать свои семьи, жертвовать своим благополучием…
Она смотрит на меня пустым взглядом.
— Бросать семьи? — Она глянула озадаченно на кучу сорняков на тропинке.
— Я говорю о Жозефине Мускат, — вспылил я.
— А-а. — Она ущипнула стебелек лаванды. — Она была несчастна. — Очевидно, в ее понимании, это исчерпывающее объяснение.
— А теперь, нарушив брачный обет, бросив все, отказавшись от прежней жизни, она, по-вашему, стала счастливее?
— Конечно.
— Замечательная философия, — презрительно усмехнулся я. — Если ее исповедует человек, для которого не существует понятие «грех».
Она рассмеялась.
— А для меня и впрямь такого понятия не существует. Я в это не верю.
— В таком случае мне очень жаль ваше несчастное дитя, — уколол я ее. — Она воспитывается в безбожии и безнравственности.
— Анук знает, что хорошо, а что плохо, — ответила она, пристально глядя на меня, но уже не забавляясь, и я понял, что наконец-то задел ее за живое. Одержал над ней одну крошечную победу. — Что касается Бога… — отчеканила она, — не думаю, что, надев сутану, вы получили единоличное право общения с Господом. Убеждена, мы вполне могли бы ужиться с вами в одном городе, вы не находите? — уже более мягко закончила она.
Я не стал отвечать на ее вопрос — знаю, что кроется за ее терпимостью, — вместо этого приосанился и изрек с достоинством:
— Если вы и впрямь хотите сеять добро, значит, вы уговорите мадам Мускат пересмотреть свое поспешное решение. И убедите мадам Вуазен проявлять здравомыслие.
— Здравомыслие? — Она изображает недоумение, хотя на самом деле прекрасно понимает, о чем идет речь. Я почти слово в слово повторяю ей то, что сказал рыжему церберу. Арманда стара, своевольна и упряма. Однако люди ее возраста не способны правильно оценить состояние собственного здоровья. Не понимают, сколь важно соблюдать диету и строго следовать предписаниям врача. А она продолжает упорно пренебрегать фактами…
— Но Арманда вполне счастлива у себя дома, — рассудительным тоном возражает она. — Она не хочет перебираться в приют для престарелых. Она хочет умереть там, где живет.
— Она не имеет права! — Отзвук моего голоса отозвался на площади, как щелчок кнута. — Не ей принимать решение. Она могла бы еще долго жить, возможно, лет десять…
— Она и проживет. Что ей мешает? — В ее тоне сквозит упрек. — Ноги у нее ходят, ум ясный, она самостоятельна…
— Самостоятельна! — Я едва скрываю раздражение. — Через полгода она ослепнет. И что тогда будет делать со своей самостоятельностью?
Впервые Роше пришла в замешательство.
— Ничего не понимаю, — наконец промолвила она. — По-моему, со зрением у нее все в порядке. Она ведь даже очки не носит, верно?
Я внимательно посмотрел на нее. Она и в самом деле пребывала в неведении.
— Значит, вы не беседовали с ее врачом?
— С какой стати? Арманда…
— Арманда серьезно больна, — перебил я ее. — Но постоянно отрицает это. Теперь вы понимаете, сколь безрассудна она в своем упрямстве? Она не желает признаться в этом даже себе и своим близким…
— Расскажите, прошу вас. — Взгляд у нее твердый, как камень.
И я рассказал.
16 марта. Воскресенье
Поначалу Арманда делала вид, будто не знает, о чем идет речь. Потом, перейдя на властный тон, потребовала, чтобы я сказала, «кто это наболтал», одновременно обвиняя меня в том, что я сую нос в чужие дела и вообще не понимаю, о чем говорю.
— Арманда, — сказала я, едва она умолкла, чтобы перевести дух. — Расскажи мне все. Объясни, что это значит. Диабетическая ретинопатия…
Она пожала плечами.
— Почему ж не объяснить, если этот чертов докторишка все равно всем разболтает? — Тон у нее сварливый. — Обращается со мной так, будто я не в состоянии самостоятельно решать за себя. — Она сердито глянула на меня. — И ты, мадам, туда же. Квохчешь вокруг меня, суетишься… Я не ребенок, Вианн.
— Я знаю.
— Что ж, ладно. — Арманда взялась за чашку, стоявшую у ее локтя, но, прежде чем поднять, крепко обхватила ее пальцами, проверила, надежно ли она сидит в руке. Это не Арманда, а я слепа. Красный бант на трости, неуверенные жесты, незаконченная вышивка, разные шляпки с полями, скрывающие глаза…
— Помочь мне ничем нельзя, — продолжала старушка более мягким тоном. — Насколько я понимаю, это неизлечимо, а посему никого, кроме меня, не касается. — Она глотнула из чашки и поморщилась. — Настой ромашки. — Это сказано без воодушевления. — Якобы выводит токсины. На вкус — кошачья моча. — Так же осторожно и неторопливо она отставила чашку. — Плохо вот только, что читать не могу. Совсем перестала шрифт разбирать. Мне Люк читает иногда. Помнишь, как я попросила его почитать мне Рембо в ту первую среду?
Я кивнула.
— Вы так говорите, будто с тех пор лет десять прошло.
— Так оно и есть. — Голос у нее бесцветный, почти без интонаций. — Я добилась того, о чем прежде и мечтать не смела, Вианн. Мой внук навещает меня каждый день. Я беседую с ним, как со взрослым. Он хороший парень и добрый, переживает за меня…
— Он любит вас, Арманда, — вставила я. — Мы все вас любим.
— Ну, может, и не все, — хмыкнула она. — Однако это не имеет значения. У меня есть все, что мне нужно для полного счастья. Дом, друзья, Люк. — Она бросила на меня строптивый взгляд и решительно заявила: — И я не позволю, чтобы у меня все это отняли.
— Я не понимаю. Ведь вас никто не может принудить…
— Я веду речь не о конкретных лицах, — резко перебила она меня. — Пусть Кюссонне сколько влезет талдычит об имплантации сетчатки, сканограммах, лазерной терапии и прочей ереси… — она не скрывала своего презрения к современной медицине, — фактов это не изменит. А правда состоит в том, что я скоро ослепну и предотвратить этот процесс не может никто.
Она сложила на груди руки, давая понять, что тема закрыта.
— Мне следовало раньше к нему обратиться, — добавила она без горечи. — Теперь процесс необратим, и зрение с каждым днем ухудшается. Еще полгода я что-то смогу видеть — это самое большее, что он может мне обещать, — потом богадельня, хочу я того или нет, до самой смерти. — Она помолчала и проронила задумчиво, повторяя слова Рейно: — Глядишь, еще лет десять проживу.