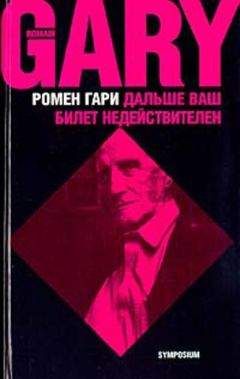— Второй тоже тут?
— Не трогайте его, он болен.
— Э нет! Только не в моих розах. Ничем не могу помочь. Убирайтесь, и поскорее.
Смотритель был страшно возмущен. Само наше присутствие в его саду он воспринимал как личное оскорбление. Чужеродные тела были ему не по нраву.
— И вообще, что вы тут делаете? Вас же всюду ищут.
Бесподобная реплика…
Этого упрашивать бесполезно — ни малейшей надежды. Он слишком любит свои розы. Ни на что другое любви не хватает. И все же я попытался:
— Мы пробираемся в Испанию. Позвольте нам побыть здесь, в саду, до вечера. Как только стемнеет, мы уйдем. Никто ничего не узнает.
Он побелел.
— Сказано же — нет! Не хочу я вляпываться в такую историю.
Его вдруг прорвало.
— Почему я? Почему всегда я? Такое уже было при немцах: выхожу утром в сад, а там два английских летчика! И дались вам всем мои цветы!
— Они чудесно пахнут, — сказал я. — Может, поэтому.
Но он меня не слушал.
— Двое летчиков-англичан, а тут в ста метрах немецкий пост. Я их, понятно, продержал до вечера, кому охота нарываться на неприятности с партизанами… Но страху-то какого натерпелся! Если бы немцы их нашли, они бы мой сад с землей сровняли!
При одной этой мысли у него на лбу выступили капли пота.
— Так что вон отсюда! И живо!
— Но он не может идти. Ему семьдесят лет, и он очень болен.
— Ну и черт с ним, — отрезал смотритель. — Пускай идет в полицию, там его вылечат. Я эти розы пятнадцать лет выращивал и не желаю, чтобы мне их уничтожили из-за какого-то монстра.
— Это не монстр, месье, — сказал я. — Это человек. Что гораздо хуже. Обыкновенный человек. И вот доказательство: у него болят зубы.
— Не время шутки шутить! — одернул меня смотритель.
— Да я не шучу. Никто ведь толком не знает, каковы отличительные признаки человека. Вот я вам подсказываю: человек — единственное млекопитающее, у которого могут болеть зубы. Это я в «Ларуссе» вычитал. Так что можете не сомневаться.
— Но есть же и нравственные соображения… — Смотритель принялся гневно размахивать трубкой. — Я вовсе не бессердечный. И понимаю, он уже старик…
— Ну, ну! — подбадривал я. — Попробуйте вспомнить. Вы ведь и сами были человеком.
Он посмотрел на меня исподлобья:
— Но… если мы допустим, чтобы рядом с нами жили предатели, то… то…
— То что?
Он пожал плечами и еще раз крутанул трубкой.
— Ну, мы тогда, выходит, будем дышать с ними одним воздухом?
Меня вдруг замутило от приторного, гудящего осами аромата, который нас окружал. Здешний воздух был какой-то искусственный, фальшивый, в нем не хватало самого простого запаха земли. А смотритель все размахивал руками, убеждая самого себя:
— Вот именно, дышать будет нечем!
Мне эта респираторная риторика начала надоедать. Я подошел к смотрителю вплотную. Он струсил и отпрянул:
— Не прикасайтесь ко мне! А то закричу!
— Кричите на здоровье, — сказал я. — У вас тут тихое местечко. На километры вокруг никого нет.
Бедняга задрожал:
— Вы меня не убьете? Какой вам от этого толк?
— Никакого, — ответил я. — Это будет бескорыстный поступок.
Я взял его за горло.
— Месье, значит, не хочет, чтобы ему грязнили воздух? А почему, скажи на милость, ты стал путевым смотрителем?
— Потому что меня не взяли в смотрители маяка. Там требовался опыт службы во флоте.
— Но и тут, на переезде, тоже неплохо, а?
Он с ненавистью посмотрел и с внезапной откровенностью сказал:
— Но далеко не так, как на отрезанном от мира маяке.
— И все-таки тут можно разводить цветочки и плевать на все, что происходит в мире, ведь верно? Война, Сопротивление — все мимо, нас все это не касается. Мы просто смотрим, как проезжают поезда, и все.
В его глазах опять сверкнула ненависть.
— Некоторые останавливаются, — процедил он.
Я стиснул зубы и тряханул его:
— Ах ты, сволочь! Скотина! Чистый воздух ему подавай!
— Мне больно!
— И ты будешь кого-то называть предателем? А ну скажи, ты, гнида, есть хоть что-нибудь, чего ты за свою жизнь не предал? Может, ты не бросил кого-нибудь в беде? Не отвернулся от чужого страдания? Да ты первый предатель и есть! С тебя и надо начинать.
— С ума вы сошли! Никого я не предал! Я вообще никогда ни во что не вмешивался! Он сумасшедший! На помощь! Вы меня задушите…
— А в конкурсах садоводов участвовал, признавайся? Небось какой-нибудь новый сорт роз вывел, точно? И получил награду?
В глазах перепуганного смотрителя блеснула гордость.
— Желтая императрица, — просипел он. — Сорок третий год, первая премия.
— Ага, признаешься? Вот видишь! Ты сказал, в сорок третьем? А знаешь, что происходило в сорок третьем году?
— Нет, — выжал он из себя. Глаза его едва не вылезали из орбит. — По крайней мере я тут ни при чем!
— В сорок третьем году миллионы людей шли на смерть ради тебя, подонок! Миллионы людей погибали ради того, чтобы ты мог дышать свободно! А ты… Желтая императрица! Драгоценная розочка!
Он больше не возражал, только таращился на меня с невыразимым ужасом. Наконец я его отпустил. Он повалился под розовый куст и съежился, не сводя с меня ненавидящего взора и готовый в любой миг удрать.
— Я подам на вас в суд! — дрожащим голосом сказал он.
Я нагнулся над ним:
— Ну вот что, дорогуша. У нас тут, в твоих кустах, припрятан чемоданчик. Не пустой… А с пластидом… Ты понял? И если вдруг ты нас выдашь… Да-да, конечно же, ты никогда… но просто предположим… Догадываешься, что тогда случится? Шарах — и райскому садику конец! Ни тебе Желтой императрицы! Ничего! Ни лепесточка!
Ненависть в его взгляде исчезла, остался раболепный страх.
— А теперь слушай, что я тебе скажу. Мы спрячемся в этом блаженном уголке до вечера. Ты нас как будто и не видел. Если что — знать ничего не знаешь. Так что с тебя взятки гладки. Ты, как обычно, ни во что не вмешиваешься. Чистые руки, хата с краю. Завтра утром проснешься, твой садик цел и невредим, нюхай себе на здоровье свою Желтую императрицу… Иначе…
Я угрожающе замолчал. Смотритель облизнул губы остреньким языком, сглотнул и сказал:
— Хорошо.
Он встал, отряхнул штаны и, не глядя на меня, буркнул:
— Только сидите в кустах.
— Не волнуйся.
Он направился к дому, но я его окликнул:
— Пока я не забыл: сделай-ка мне кофейку с молоком и запузырь яишенку из двух… нет, пожалуй что из трех яиц. Да мигом!
Смотритель метнул на меня желчный взгляд и вошел в дом. Я вовсе не был голоден, просто хотел проверить, крепко ли держу его на крючке. Минут через десять он помахал мне из окошка и скрылся. На подоконнике стояла яичница и стакан кофе. Я поел и снова залег в кусты.
— А вы хотите есть?
Вандерпут лишь застонал в ответ. Он лежал плашмя и держался за ручку своего чемодана. Мне вдруг захотелось узнать, что за сокровища он туда напихал. Я схватил и открыл чемоданчик. Сверху лежало белье, а под ним все та же свалка: брелоки, цепочки, веревочки, лоскутки и целая коллекция разномастных пуговиц. Тут же фотографии: Вандерпут-младенец, Вандерпут-артиллерист, Вандерпут на качелях, бравый молодой усач — и букетик искусственных фиалок с дырявыми лепестками. Из кучи хлама выпорхнула парочка белых мотыльков — и моль он ухитрился прихватить. Так вот что этот заблудившийся патруль взял с собой в последнее путешествие. Ну, понятно, друзей. Я посмотрел на Вандерпута. Нас окутывал приторный дух. Настороженный немигающий глаз старика стерег меня, как огромный паук в паутине морщин. Землистое лицо его было помято, покрыто испариной. Маленький, весь в черных точках нос жалобно посвистывал, а слюнявые губы вздулись и искривились из-за флюса. «Жалость — единственная общая мера, лишь она может вобрать нас всех, лишь в ней мы все равны. Только жалость придает единый смысл нашему родовому названию, только она позволяет искать и находить человека повсюду, куда бы его ни занесло. Самое страшное — это когда мы странным образом не можем разглядеть в человеке человека, и только жалость говорит нам, что мы окружены людьми. Жалость выше всех смут, для нее нет ни истины, ни заблуждений, она и есть сама человечность». Я столько раз читал и перечитывал эти отцовские слова, не понимая их смысла, и вот теперь они пришли мне на помощь, и все в них было ясно и прозрачно. «Предать можно только то, что ты получил: предатель — только тот, кто был любим, не бывает предательства без доверия». Я склонился над Вандерпутом. Если в душу мне и закрадывалось сомнение — от страшной усталости, назойливого жужжания ос, солнца и душно-сладкого воздуха, — то страдания, написанного на этом лице, было достаточно, чтобы его развеять.
— Мне очень больно, — выговорил Вандерпут.
— Лежите тут и не двигайтесь. Я постараюсь что-нибудь придумать, — сказал я и выполз из кустов.